А. Блок. Его предшественники и современники
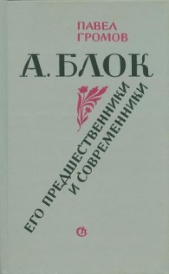
А. Блок. Его предшественники и современники читать книгу онлайн
Книга П. Громова – результат его многолетнего изучения творчества Блока в и русской поэзии ХIХ-ХХ веков. Исследуя лирику, драматургию и прозу Блока, автор стремится выделить то, что отличало его от большинства поэтических соратников и сделало великим поэтом. Глубокое проникновение в творчество Блока, широта постановки и охвата проблем, яркие характеристики ряда поэтов конца ХIХ начала ХХ века (Фета, Апухтина, Анненского, Брюсова, А. Белого, Ахматовой, О. Мандельштама, Цветаевой и др.) делают книгу интересной и полезной для всех любителей поэзии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
органически наделена «стихийностью», взрывной силой поэтического
темперамента. Получается часто так, что перспектива движения истории у
большого поэта не столько исчезает, сколько стремится войти в персонаж, как
бы «обжиться» в нем. В таком случае книжная условность становится не
столько напоминанием готовых образцов, сколько особым способом большого
поэтического обобщения. Если, скажем, Цветаева «стилизует» свой персонаж
«под» прозу Лескова или Достоевского, то в итоге возникает не «стилизация»,
но раскрытие некоторых черт национального женского характера. «Книжность»
становится средством расширения возможностей поэтического образа.
«Жизненность» Цветаева противопоставляет «условности» общественных
отношений. А выражает Цветаева этот контраст между «жизненностью» и
«условностью» только через доведенную до предела обобщенность, только
через персонаж почти театрального плана. Редкая актриса может так «жизненно
сыграть» Офелию или Федру, как это делает в стихах Цветаева (сборник «После
России», 1928 г.). Отсюда — постоянное стремление Цветаевой как бы «влезть
в чужую кожу», как бы актерское желание проиграть чужую судьбу: то это
выражается в многочисленных патетических обращениях к поэтам-
современникам, где «проигрывается» по-своему поэтическая индивидуальность
другого поэта (между прочим, у Цветаевой есть целый обширный цикл стихов о
Блоке), то это «проигрывание» мифологических сюжетов (Федра),
исторических ситуаций и персонажей (Марина Мнишек) и т. д. Получается
тоже в своем роде «вереница душ», но в ней подчас настолько отчетлива
«театральная», «заемная» природа их, настолько иногда ясно, что условность
тут обозначает (а иногда заменяет) реальную широту общественных связей,
перспективу движения истории, что Цветаева со свойственной ей необузданной
откровенностью прямо признается в своей крайней нелюбви к театру: «Не чту
Театра, не тянусь к Театру и не считаюсь с Театром. Театр (видеть глазами) мне
всегда казался подспорьем для нищих духом, обеспечением для хитрецов
породы Фомы неверного, верящих лишь в то, что видят, еще больше: в то, что
осязают. — Некой азбукой для слепых. А сущность Поэта — верить на
слово! »216 Разумеется, дело совсем не в том, чтобы выискивать у большого
поэта противоречия, но в том, чтобы трезво видеть их, когда они налицо, и
стараться понять их внутреннюю логику. Цветаева не была бы Цветаевой, если
бы она не шла вот так напролом: требование предельной искренности («верить
на слово») сочетается с непостижимой попыткой отвергнуть то, без чего нет ее
собственного творчества во всем объеме, — условную обобщенность.
Выказывается отвращение к театру не потому, что он далек от собственных
стихов, но скорее потому, что он к ним слишком близок. «Естественность»
противопоставляется обобщенности, за такого рода художественными
коллизиями проступают более общие мировоззренческие коллизии,
раздирающие творчество поэта. Разумеется, здесь нет даже тени претензии
исчерпывающе охарактеризовать творческую позицию Цветаевой — поэта
трагически сложной общественной и художественной судьбы, надо было только
указать на то, что явно связывает Цветаеву с блоковской поэтической
традицией.
У самого Блока, как говорилось выше, выступали иногда иллюзии
216 Цветаева Марина. Два слова о театре. — В кн.: Конец. Казановы.
Драматический этюд. М., «Созвездие», 1922, с. 6.
«естественности», противостоящей общественным, социальным, историческим
качествам современного человека. Сила Блока-поэта в «Страшном мире» и
вообще в трагедийной концепции третьего тома состоит как раз в том, что он
находит соотношения между трагическим в душе человека и темным,
страшным в общественной жизни, не отделяет метафизически «естественное»
от исторического, но напротив, стремится постигнуть, как трудно различимо в
современных условиях то, что идет от устремлений человеческой «натуры», и
то, в чем выражается «страшный мир». Для Блока третьего тома
индивидуальность человека и общественные отношения «нераздельны», но они
и «неслиянны» — разные люди в «страшном мире» ведут себя очень по-
разному. Важно для Блока то, что «страшный мир» проникает в человеческую
душу:
Ты и сам иногда не поймешь,
Отчего так бывает порой,
Что собою ты к людям придешь,
А уйдешь от людей — не собой.
(«Есть игра: осторожно войти…», 1913,
раздел «Страшный мир»)
Это и есть, по Блоку, мера человеческой высоты или низости в условиях
«страшного мира»: каким человек выступает в своих отношениях с людьми.
«Натура» сама по себе не может всегда и при всех обстоятельствах
противопоставляться «общим» закономерностям жизни, как поэтически
представляла в своих стихах Цветаева; про натуру в этом же стихотворении
Блок говорит, что «слишком много есть в каждом из нас неизвестных играющих
сил». «Страшный мир» тем и страшен, что человек может выступать и часто
выступает именно в самых своих темных качествах:
А пока — в неизвестном живем
И не ведаем сил мы своих,
И, как дети, играя с огнем,
Обжигаем себя и других…
Индивидуальное и социальное Блок видит и в их единстве, и в их
разорванности — в большой общественной перспективе; и такое, казалось бы,
чисто индивидуальное чувство, как любовь, Блок рисует в подобных связях и
исторически обусловленных разрывах, в коллизиях личного и общего,
пронизывающих современные страсти. Получается в ряде случаев интонация
высокого гражданского пафоса, — напоминающие Некрасова и действительно с
ним связанные гневные стихи о проданной и униженной любви в конкретных
обстоятельствах современного города:
Красный штоф полинялых диванов,
Пропыленные кисти портьер…
В этой комнате, в звоне стаканов,
Купчик, шулер, студент, офицер…
(«Унижение», 1911, раздел «Страшный мир»)
Для Блока тут особенно существенно личное унижение, поругание
человеческого достоинства; вся ситуация развертывается на фоне огромного
желтого холодного заката, который образно представляет «мировое состояние»,
неразрывность и одновременно трагическую расщепленность личного и
общего, — «страшный мир» проник в душу героини:
Только губы с запекшейся кровью
На иконе твоей золотой
(Разве это мы звали любовью?)
Преломились безумной чертой…
Героиня выступает и как «икона», образ безмерного страдания, и как
закономерная, активная часть общих условий «страшного мира», как женщина,
вонзающая герою «в сердце — острый французский каблук».
Для Блока, создающего «вереницу душ», представляющих в своей
совокупности разные стороны, разные грани «страшного мира», важны тут
именно различные лирические характеры, и с огромным искусством он дает
разные повороты, разные последствия как будто бы однотипных ситуаций; если,
скажем, персонажи «Унижения» представали на фоне наглой, вызывающей,
безвкусной роскоши и одновременно — огромного «мирового» заката, то в
других случаях эта же городская любовь и это же «мировое» могут выглядеть
совсем иначе:
Ночь — как ночь, и улица пустынна.
Так всегда!
Для кого же ты была невинна
И горда?
Лишь сырая каплет мгла с карнизов.
Я и сам
Собираюсь бросить злобный вызов
Небесам.
(«Ночь — как ночь, и улица пустынна…», 1908,
раздел «Возмездие»)
«Мировое» здесь, в этом стихотворении 1908 г., не случайно включенном в
раздел «Возмездие», предстает в виде дождливого серого городского пейзажа:
Блок говорит в этом случае о том, чем оборачивается для людей «страшного
























