Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург
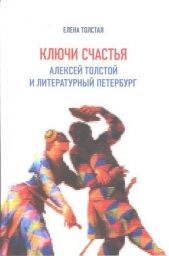
Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург читать книгу онлайн
Настоящее исследование Е. Толстой «Ключи счастья» посвящено малоизвестному раннему периоду творческой биографии Алексея Николаевича Толстого, оказавшему глубокое влияние на все его последующее творчество. Это годы, проведенные в Париже и Петербурге, в общении с Гумилевым, Волошиным, Кузминым, это участие в театральных экспериментах Мейерхольда, в журнале «Аполлон», в работе артистического кабаре «Бродячая собака». В книге также рассматриваются сюжеты и ситуации, связанные с женой Толстого в 1907–1914 годах — художницей-авангардисткой Софьей Дымшиц. Автор вводит в научный обиход целый ряд неизвестных рукописных материалов и записей устных бесед.
Елена Д. Толстая — профессор Иерусалимского университета, автор монографий о Чехове «Поэтика раздражения» (1994, 2002) и Алексее Толстом — «Деготь или мед: Алексей Толстой как неизвестный писатель. 1917–1923» (2006), а также сборника «Мирпослеконца. Работы о русской литературе XX века», включающего цикл ее статей об Андрее Платонове.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

А. Толстой с И. Эренбургом и К. Симоновым едет в Харьков
Уже в декабре 1943 года, после Харькова, Толстой плохо себя почувствовал. К середине 1944 года он был смертельно болен; по общему мнению близко знавших его людей — от увиденных ужасов. Я же полагаю, что в первую очередь от страха, а может быть, и от крушения всех надежд.
В толстовской пьесе «Орел и орлица» в сцене прощания князя Курбского с женой есть фраза о сыновьях: «Заставят их отречься от меня, проклясть отца, — пусть проклянут, этот грех им простится, лишь бы живы были» (ПСС-10: 473). Должно быть, Толстой продумал, что делать его собственным сыновьям в случае его ареста, и оставлял указания.
Первая часть в переработанном до неузнаваемости виде была поставлена в Малом театре (кстати — с музыкой Ю. Шапорина). Однако постановку окружала аура неудачи: артист Хмелев умер во время генеральной репетиции, в гриме Ивана Грозного. Тем не менее спектакль в октябре 1944 года был закончен. Однако угодить тирану Толстой все же не сумел. Сталин с премьеры ушел разъяренный. Толстой был слишком болен и в театре не был. Пьесу продолжали переделывать, уже не спрашивая Толстого, новая премьера прошла после его смерти (23 февраля 1945 года), но после ряда отрицательных рецензий пьеса была снята с репертуара.
Проект гигантского судилища над писателями был спущен на тормозах, и Толстой умер не от пули в затылок в подвале, а от рака легких в своей постели, лауреатом и орденоносцем. Вторую часть «Ивана Грозного» поставили в 1946 году во МХАТе, также без особого успеха.
Власть не поддержала толстовскую концепцию, несмотря на всю ее патриотическую сервильность, именно потому, что Толстой, вопреки сталинской цензуре и самоцензуре, все равно повернул своего Ивана чересчур интимной стороной, сделал его слишком не чуждым человеческим страстям и отсюда по-розановски вывел крайности его политического поведения. Эта отягощенность толстовского царя «женолюбием» неизменно раздражала власть. «Этого она не заказывала» — она заказывала переосмысление политики Грозного в нужном духе, применимое к современности. Сталину следовало бы заказать пьесу об Иване Грозном не Толстому, а Михалкову: получилось бы: «Но Грозный видел далеко, / На много лет вперед». Перенесение чувств Грозного на его современного прототипа, запрограммированное пьесой, было совершенно Сталину не нужно. Ведь оно могло приводить на ум сюжеты и вовсе неудобомыслимые, например историю Аллилуевой.
Меньше чем через год после смерти Толстого Ахматова интригующе рассказала о своем противоречивом притяжении-отталкивании от Толстого Исайе Берлину, возвестив об этих отношениях как о своей победе, плоды которой она пожать отказалась. Возможно ли, что она желала привлечь внимание к очередному своему «зеркалу», Анне Вяземской, потому что сходство этой героини с оригиналом читатели так и не заметили — не прочли, или побоялись заметить, или не сочли нужным?
Подчеркнув яркость и талантливость Толстого, она невероятно преувеличила недостатки, без должных оснований обвинив его в гибели Мандельштама и в «чудовищном антисемитизме». Отношение Толстого к евреям менялось, поначалу он был типичным интеллигентом-филосемитом и женат был на еврейке; ничего чудовищного не было и в его интеллигентском «вторичном антисемитизме», вызванном еврейской активностью в революции. Этот антисемитизм он разделял с очень многими и, наверное, не скрывал его от Ахматовой. В 1960 году, говоря Чуковской о лживости мемуаров Эренбурга, она высказалась так: «Все вранье. Алексей Николаевич был лютый антисемит и Эренбурга терпеть не мог» (Чуковская 1997а: 429). Хотя Эренбург об этом предпочитал не упоминать, но еще в 1918 году у Толстого с юным Эренбургом, которые были в это время близкими друзьями, наметился конфликт, видимо поначалу имевший отношение к антисемитским ноткам в кое-каких толстовских рассказах революционного периода (впрочем, весьма малозаметным) и в первой редакции толстовского романа о революции. Конфликт этот разгорелся в 1920–1922 годах в Париже и Берлине; но все же Толстой возненавидел Эренбурга по причинам литературного и политического, а не национального свойства (Толстая 2006: гл. 12).
Говоря об антисемитизме Толстого: многие, в первый год войны, до Сталинграда, ожидали сепаратного мира с Германией. Вс. Иванов в дневнике предположил, что в кругах Толстого шли разговоры о возможности сепаратного мира — после чтения его старой антинемецкой пьесы о первой мировой войне «Нечистая сила» (1915), которую Толстой, видимо, думал пристроить на сцену, жена его сказала, что пьесу могут и не поставить: «может быть, окажется, к тому времени, и немцев ругать не надо» (Иванов Вс. 2001: 161). Мы знаем, что Толстой с 30-х годов не видел ничего страшного даже и в колонизации России Германией. Для элиты такой мир мог казаться желанным выходом из коммунистического эксперимента — а также и концом чрезмерного, как казалось, присутствия евреев в идеологических и властных структурах; никто еще не знал, что делалось с евреями в нацистской Германии.
У Ахматовой выстроился ужасный и колоритный, замечательно выпуклый и выразительный «фальстафовский» образ, своеобразный некролог романтическому «очаровательному негодяю». В нем слишком много фактических погрешностей и натяжек. Наверное, Толстой возмутился бы, что на него возлагают ответственность за гибель Мандельштама (см. гл. 7). Удивился бы он, что его сравнивают с Долоховым? На наш взгляд, может быть только одно объяснение этому сравнению: чтоб удостоиться его, он должен был что-то рассказать Ахматовой о своих смертельных играх со Сталиным.
Можно гадать о причинах того, почему, кроме ее собственного устного свидетельства, не сохранилось почти никаких следов истории отношений Ахматовой с Толстым. Но, запечатленная в художественных текстах, эта история предстает как необходимый контрапункт официальных биографий двух современников — выходцев из Серебряного века.
Ахматова еще вспоминала Толстого добром в 1947 году, после рокового постановления, говоря с Шапориной о том, что гонения на нее были и раньше, но никогда не имели такого личного характера; собеседница Ахматовой записала 20 января 1947 года ее слова: «Ведь вскоре после появления моей книги “Из шести книг” она была запрещена, был устроен скандал редактору, издательству» (Шапорина 2011-2: 38), и прокомментировала это так: «Тогда не затрагивали А.А. как человека и даже как поэта — и такое отношение она приписывает влиянию А. Н. Толстого, который любил ее стихи» (Там же, прим.). Однако со временем ахматовские оценки Толстого, несомненно учитывавшие ожидания слушателей, становились все более негативными и ироническими.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Толстой в разговорах 60-х. — Вечный сменовеховец. — Запаздывание как преимущество.
Толстой в разговорах 60-х
Отталкивающий имидж Толстого, который запечатлелся в сознании нашего поколения, во многом создавался в разговорах Ахматовой шестидесятых годов. М. И. Будыко суммировал свои разговоры 1960-х с Ахматовой о Толстом следующим образом:
А. Н. Толстой. Желтая (бульварная) литература. Книгу «Хождение по мукам» А.А. отрицала, не читая. Однажды она собралась с силами и прочла часть, и теперь у нее есть доказательства ничтожества этой книги. Образ Бессонова — недопустимое оскорбление Блока. Отрицание этого Эренбургом — неправда. (А.А. при этом назвала его «круглогодичный лжесвидетель», добавив, однако, что не относится плохо к Илье Григорьевичу). Роман сильно изменился после первого парижского издания. Там эмигрант Толстой порицал «Двенадцать» Блока [353]. Потом все изменилось.
Толстой вырос на Волге и в Петербурге был чужой. Он не был похож на человека из общества. Сначала он учился в Технологическом институте, но из-за революции 1905 года учеба оборвалась, и он уехал в Париж [354]. Потом провел несколько зим в Петербурге, пытаясь заниматься литературой, но с полууспехом. В. Иванову и другим знатокам он не нравился. Затем он переехал в Москву, где прославился и у него появились большие деньги. Тогда он развелся со своей женой С. И. Дымшиц и женился на художнице Крандиевской, добившись ее развода [355] (бывшего мужа Крандиевской он очень боялся [356]). В «Хождении по мукам» клеветнический образ Елизаветы Киевны это Елизавета Кузьмина-Караваева, человек необычайных душевных достоинств («католическая святая»). О Бессонове лучше не говорить, его приключения на островах — это, может быть, приключения Толстого, но не Блока [357]. Блок не любил Толстого, о котором имеется очень грубая запись в дневнике Блока [358]. Блок был вообще груб. Он, вероятно, сказал это Толстому. <…> Показав мне книгу Толстого с записью для А.А. — очень сдержанной, заявила: «Толстой меня обожал». Когда А.А. отказалась от его помощи при получении квартиры, Толстой назвал ее «негативисткой». А.А. считает, что такое ее качество относится только к Толстому. (Примечание. В «Хождении по мукам» есть оскорбительные и явно несправедливые строки об Ахматовой, которая, однако, не названа там по имени [359].) (Будыко 1991: 483–484)


























