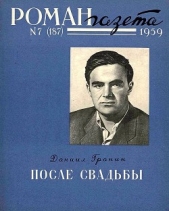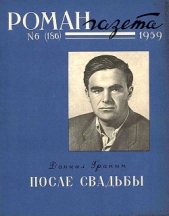Мои воспоминания. Книга вторая

Мои воспоминания. Книга вторая читать книгу онлайн
Воспоминания живописца, театрального декоратора, художественного критика и историка искусства Александра Николаевича Бенуа (1870–1960) являются настольной книгой для интеллигентного читателя. По мнению академика Д. С. Лихачева, автор учит любви к своей стране, к своему городу, к своей семье и ее традициям. К «Воспоминаниям» А. Н. Бенуа можно обращаться и за справками, и за знаниями, и просто ради душевного отдыха…
Впервые воспоминания А. Н. Бенуа под названием «Жизнь художника» были опубликованы в 1955 году на русском языке в двух томах в «Издательстве имени Чехова» в Нью-Йорке.
В 1960 и 1964 годах в Лондоне был издан двухтомный английский перевод мемуаров, который включал и новые главы.
Третье издание воспоминаний Бенуа, еще более полное и с примечаниями, появилось в 1980 году в Москве в академическом издательстве «Наука». И, наконец, в 1990 году «Наука» переиздала этот двухтомник, восстановив купюры, сделанные в 1980 году.
Здесь печатается полный текст, немного отредактированный для большей легкости чтения (в частности, иноязычные слова переведены прямо в тексте) и с соблюдением всех норм современной пунктуации и орфографии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Водворились мы на новой квартире в конце августа. Собирались мы зажить в ней на многие годы — так она нам нравилась, такая она была удобная и комфортабельная, но судьба сулила иное, и не прожили мы в квартире у Тучкова моста даже года. Политический горизонт все более заволакивался, и это получало отражение на любой частной жизни. С каждым днем усиливалось настроение общей тревоги; известия с войны становились все менее утешительными, и непрестанно росло небывалое общее неудовольствие. Это уже не было обычное в русском обществе бубнение и невинное фрондирование. Ведь даже в своих самых лояльных кругах русские люди и раньше не прочь были позлословить на счет разных персон, стоящих у власти, или критиковать всякие мероприятия правительства; в общем, однако, это было скорее довольно благодушное чесание языка. Особенно падки были на то лица, которые, ничем не рискуя и вовсе не собираясь каким-либо образом примкнуть к крамоле, чувствовали потребность слыть среди близких за каких-то очень передовых, даже не без оттенка чего-то «красного». Тут было и нечто от басни про Моську и Слона, тут было и что-то, что называют показыванием кукиша в кармане. Так всегда было, и не только вреда не приносило, а напротив, приносило известную пользу, исполняя функцию какой-то отдушины. Так смотрели на подобный ропот и те, кому было поручено блюсти нерушимость общественного порядка. Даже в нашем определенно полицейском государстве существовало мудрое правило: «пусть болтают, большого вреда от этого нет». Иные сановники, и те охотно принимали участие в этих пересудах, зная, что ныне никакое «Слово и дело» не может обернуть подобную невинную игру в подобие заговора и в нечто для них опасное.
Семья Бенуа была из наиболее лояльно настроенных, однако, боже мой, как иной раз за обыкновенным семейным сборищем свирепствовали наши домашние зоилы и критиканы (только мамочка озиралась тогда и тревожно приговаривала: «Pas devant les gens!» — «Не в присутствии прислуги!»). Да что скрывать, и я, многогрешный, нередко подливал масла в огонь, наслаждаясь своим же собственным священным негодованием. Так было еще, когда правил не любивший шутки шутить Александр III, так продолжалось в очень усиленном гоне в дни его сына. Бывало, что (при ощущении прочной надежности всего строя) такая беседа сбивалась и на более революционный лад — отчего было не поиграть с чем-то столь далеким и недостижимым, как ниспровержение существующего строя? Когда же русские люди попадали в чужие края, то и самые мирные, незлобивые любили пококетничать своим свободомыслием, горько жалуясь на «невыносимый гнет» и вторя «клеветникам России».
Но теперь, под действием той трагедии, что разыгрывалась на Дальнем Востоке, под действием того срама, который приходилось претерпевать всенародно, обычное бубнение стало переходить в иной тон. Революция казалась уже не за горами, она как-то вдруг придвинулась к самой действительности. Русское общество почувствовало зыбкость, ненадежность всего и ощутило потребность в коренной перемене. Громче и отовсюду стали слышаться требования «обуздания правительственного произвола», непопулярная японская война способствовала развитию уродливого явления — пораженчества. В этой войне стали видеть не столько борьбу с внешним врагом, сколько средство справиться с внутренней неурядицей. Проиграв войну, обанкротившись, существующий режим должен будет уступить иному, и уже, разумеется, более культурному, опирающемуся на более передовые данные, выработанные политической наукой, и более сходственному с теми государственными системами, которыми гордились передовые государства Запада. Вопрос об обуздании абсолютизма, о конституции стал злобой дня, а так как правительство, особенно после гибели среди лета министра Плеве (одного из самых тупых, но и самых храбрых поборников системы неуступчивости), стало выказывать все большую растерянность, то эти вопросы теперь могли быть обсуждаемы и в печати сначала в несколько робких и иносказательных тонах, а там все громче и откровеннее.
Как раз я тогда впервые получил доступ к повседневной печати. В тесном кругу людей, интересующихся искусством, мое имя было известно благодаря сотрудничеству в «Мире искусства» и моей «Истории русской живописи», однако после нескольких давнишних тщетных попыток проникнуть в одну из газет я перестал об этом думать. И вот осенью 1904 года Н. И. Перцов, приступивший к изданию новой газеты умеренного направления, сам обратился ко мне с предложением взять на себя в «Слове» отдел художественной критики. Хотя Н. И. Перцов был близким родственником моего приятеля — члена «Религиозно-философского общества» Петра Петровича Перцова, однако до того времени я с Николаем Ивановичем не встречался, но из беседы с ним выяснилось, что он мой усердный читатель и что вообще лично интересуется искусством. Внешность Перцова не особенно располагала к нему. Это был высокого роста, массивный, очень прямо державшийся, черноволосый и чернобородый господин с необыкновенно грубыми и некрасивыми чертами лица, чему, впрочем, противоречила его воспитанность и отличные манеры. В общем, он производил впечатление не то что высокомерного, но все же преувеличенно сдержанного, холодного европейца.
Что же касается его художественных взглядов, то они не были созвучны с моими, а отличались известной склонностью к академической банальности и большим недоверием ко всяким крайностям, а крайностями в те времена представлялось все, что хоть немного выходило за пределы самого обывательского реализма. Однако Н. И. Перцов гарантировал мне полную свободу мнения в своей газете, и именно это явилось для меня тем соблазном, перед которым я не смог устоять. Оставалось выяснить политическую окраску «Слова», и на этом особенно настаивал Д. Философов, тогда еще не переставший заботиться о соблюдении друзьями какой-то осмотрительности в их общественных выступлениях — недаром за ним все еще числилась у нас кличка «гувернантка». По его совету, я и предложил Перцову вопрос — «будет ли газета стоять за реформы, за конституцию?» (до которой мне лично было мало дела). Когда я в ответ услыхал категорическое «разумеется», то моим колебаниям настал конец, и я согласился стать постоянным сотрудником новой газеты, которая, если не ошибаюсь, стала тогда же, осенью, выходить.
Надо еще сказать, что как раз тогда же мы решили покончить с нашим детищем, с «Миром искусства». Последней попыткой продолжить его существование явилось со стороны — в виде предложения нашей прежней меценатки, княгини М. К. Тенишевой, вновь взять на себя расходы по изданию нашего журнала. Мы было пошли на это — жаль было бросать столь все же близкое нам дело. Но Тенишева ставила непременным условием принятие в качестве равноправного третьего редактора (кроме Дягилева и меня) и Н. К. Рериха, а это совершенно не нравилось никому из нас, так как, при всем уважении к таланту Рериха как художника, мы не вполне доверяли ему как человеку и товарищу, не верили в его искренность и в самое его расположение к нам. Прибавлю к этому, что прекращение издания «Мира искусства» не причинило нам большого огорчения. Все трое, Дягилев, Философов и я, устали возиться с журналом, нам казалось, что все, что нужно было сказать и показать, было сказано и показано, поэтому дальнейшее явилось бы только повторением, каким-то топтанием на месте, и это особенно было нам противно [39].
Первые номера «Слова» появились еще осенью того же 1904 года; в них было несколько моих статей и заметок. К сожалению, у меня нет под рукой этих моих первых опытов газетного сотрудничества, и, кроме двух статей, я не помню, о чем именно они толковали. Запомнилось только, что одна из моих статеек была посвящена моему кумиру — Адольфу Менцелю, как раз в то время окончившему свою долгую и плодотворную жизнь, а другая — танцовщице Айседоре Дункан, восторженным поклонником которой я тогда выступил.
Танцы Айседоры произвели на меня (и на очень многих — среди них на будущего нашего ближайшего сотрудника М. М. Фокина) глубокое впечатление, и скажу тут же, что если мое увлечение традиционным или «классическим» балетом, против которого Айседора вела настоящую войну, и не было поколеблено, то все же я и по сей день храню память о том восхищении, которое вызвала во мне американская босоножка. Не то чтобы все в ней мне нравилось и убеждало. Начать с того, что она как женщина не обладала, на мой вкус, каким-либо шармом — тем, что теперь так грубо означается словом sex appeal. Она не отвечала ни одному из моих идеалов (не то что Цукки, или Павлова, или Карсавина, или Спесивцева, или сестры Федоровы). Многое меня коробило и в танцах; моментами в них сказывалась определенная, чисто английская жеманность, слащавая претенциозность. Тем не менее, в общем, ее пляски, ее скачки, пробеги, а еще более ее остановки, позы были исполнены подлинной и какой-то осознанной и убеждающей красоты. Главное, чем Айседора отличалась от многих наших славнейших балерин, был дар внутренней музыкальности. Этот дар диктовал ей все движения, и, в частности, малейшее движение ее рук было одухотворено.