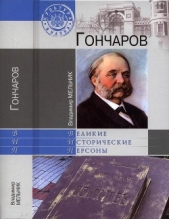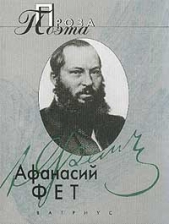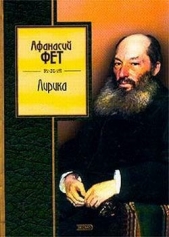Воспоминания

Воспоминания читать книгу онлайн
В книгу «Воспоминания» вошли мемуары А.А. Фета («Ранние годы моей жизни» и «Мои воспоминания»), которые рисуют яркую картину русской жизни на протяжении почти шести десятилетий и представляют собой источник для изучения жизненного и творческого пути А.А. Фета (1820–1892).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тургенев писал из Петербурга 22 февраля 1860:
Милейшие господа, Фет и Борисов! Ваше письмо меня очень обрадовало, и я немедленно отвечаю. Что касается до моего здоровья, то я начал понемножку…
…Выезжать (это письмо я продолжаю неделю спустя — 29 Февраля). Действительно, я стал много выезжать по милости респиратора, сиречь намордника, который я ношу на рту. Я сделал много новых интересных знакомств, о которых я поговорю с вами под тенью (не очень густой — дело будете в апреле месяце) Спасского сада и т. д. Кстати, мне ужасно досадно, что граф Николай Толстой был у меня два раза в течении одного дня, не застал меня и, не оставив своего адреса, исчез и уже более не показывался. Скажите ему, что приятели так не делают, и что я очень об этом сожалею.
Теперь надо сказать несколько слов о Кальне. Дядя пишет мне, что он сообщил вам опись этого имения в подробности. Цена, им назначенная, мне кажется велика, и мы об этом переговорим. Общий залог Кальны с другими деревнями не может сделать затруднения, — был бы капитал. Мы также переговорим о том, не продать ли нам одну господскую землю (с мельницей и т. д.), если это возможно, для того чтобы не затруднять вас отношениями с крестьянами, посаженными на оброк. Посмотрите сами, понравится ли вам место и т. д. Съездите вместе и т. д. Доктор меня в мае посылает заграницу, но я хочу весну встретить и провести месяц в деревне.
Переводы ваши из Гафиза на сей раз очень хороши. Здесь чтения продолжают иметь успех. Гончаров на днях прочел мне и Анненкову удивительный отрывок вроде «Сна Обломова». (Его Беловодов мне не нравится). Моею повестью и здесь недовольны; но о ней много спорят и кричат, если бы совсем молчали, было бы плохо. Есть и энтузиасты, но весьма мало. Суета суетствий!
А Лев Толстой продолжает чудить. Видно так уже написано ему на роду. Когда он перекувыркнется в последний раз и станет на ноги?
Обнимаю вас обоих и кланяюсь Марье Петровне и всем приятелям. Пишите.
Ваш Ив. Тургенев.
От 13 марта 1860 он писал:
Я в долгу перед вами, Fettie carissime, но отчасти извиняюсь тем, что употребил истекшую неделю на окончание повести, которая уже сдана в Библиотеку для Чтения и явится в мартовском номере. (Кстати, все слухи о несостоятельности Библиотеки для Чтения оказываются ложными, и книжная лавка Печаткина заперта только по воскресеньям). Повесть моя называется Первая любовь. Сюжет ее вам, кажется, известен. Читал я ее на днях ареопагу, состоявшему из Островского, Писемского, Анненкова, Дружинина и Майкова; приглашенный Гончаров пришел пять минут по окончании чтения. Ареопаг остался доволен и сделал только несколько неважных замечаний, остается узнать, что скажет публика, которую вы так не любите. Единственный человек, которого я совершенно отказываюсь удовлетворить когда-нибудь — Лев Толстой. Но что делать! Видно так у меня на роду написано. Здесь распространились слухи, что он снова принялся работать, и мы все порадовались.
Ну, любезнейшие друзья мои, Аф. Аф. и И. П., увидите вы меня скоро, но не в натуре, а в фотографии, которую я нарочно для вас заказал. Что касается до моей персоны, то я, к истинному моему горю, не поеду в деревню, а отправляюсь весной за границу лечиться. Что там ни говори о моей мнительности, а я очень хорошо чувствую, что в горле и груди неладно; кашель не проходит, кровь показывается раза два в неделю, я без намордника (сиречь респиратора) носа не могу показать на двор. Где уж тут о весенней охоте и пр. и пр. Надобно воды пить, да ванны брать, да радеть о своем гнусном теле! Это меня огорчает, и я приемлю смелость думать, что и вас обоих огорчит тоже. Что делать! «Скачи краже, як пан каже». На охоте вспоминайте обо мне… А кажется, по известиям из деревни, Бубулька едва ли не приказала долго жить… Нездоровье вашей собаки нехорошо, любезный Аф. Аф. Надо ее вылечить; боюсь я немножко, как бы она не оказалась слабою в поиске. А как бы мы поохотились! Ах, лучше не говорить об этом!
Но вы не покидайте мысли о Кальне; переговорите на месте и толковым образом с дядей; я готов на все, чтоб иметь вас соседом.
Не сердитесь на меня, а рассудите: мне самому невесело. От души обнимаю вас всех и остаюсь навсегда
преданный вам Ив. Тургенев.
В. П. Боткин писал из Парижа 20 марта 1860:
Милые друзья, Фет и Маша! Наконец, и только дней пять тому назад получил я твою посылку, и не знаю, как просить у тебя прощения за хлопоты, какие причинила тебе эта посылка. Наш московский почтамт, должно быть, набит дураками, которые не разумеют своего дела, потому что я прошлого года посылал в Париж Дворянское гнездо без малейших затруднений, просто «sous bande», т. е. обернув ее узенькою бумажкой и написав на ней адрес. Точно так и тебя просил я переслать мне Накануне, но, к сожалению, ты не обратил внимания на мое слово «sous bande» и вместо этого отправил в виде посылки. Почему же петербургский почтамт принимает, а московский нет? Экая чепуха!!!
Не смотря на все недоразумения, Накануне, я прочел с наслаждением. Я не знаю, есть ли в какой повести Тургенева столько поэтических подробностей, сколько их рассыпано в этой. Словно он сам чувствовал небрежность основных линий здания и чтобы скрыть эту небрежность, а может быть и неопределенность фунтаментальных линий, он обогатил их превосходнейшими деталями, как иногда делали строители готических церквей. Для меня эти поэтические, истинно художественные подробности заставляют забывать о неясности целого. Какие озаряющие предметы эпитеты, да, солнечные эпитеты, неожиданные, вдруг раскрывающие внутренние перспективы предметов. Правда, что несчастный Болгар решительно не удался; всепоглощающая любовь его к родине так слабо очерчена, что не возбуждает ни малейшего участия, а вследствие этого и любовь к нему Елены более удивляет, нежели трогает. Успеха в публике эта повесть иметь не может, ибо публика вообще читает по утиному и любит глотать целиком. Но я думаю, едва ли найдется хоть один человек с поэтическим чувством, который не простит повести все ее математические недостатки за те сладкие ощущения, которые пробудят в душе его ее нежные, тонкие и грациозные детали. Да, я заранее согласен со всем, что можно сказать о недостатках этой повести, и все-таки я считаю ее прелестною. Правда, что она не тронет, не заставит задуматься, но она повеет ароматом лучших цветов жизни.
Что касается до Грозы Островского, то я «au bout de mon latin». Это лучшее произведение его, и никогда он еще не достигал до такой силы поэтического впечатления. Катерина останется типом. И какая обстановка! — эта фантастическая барыня, эта полуразвалившаяся и заброшенная церковь, эта идиллия, озаренная зловещим предчувствием неминуемого и страшного горя, — все это превосходно, широко, сильно и мягко. Я послал Островскому письмо на имя Дружиннна, полагая, что теперь Островский в Петербурге.
Я еще в прошлом письме писал тебе, что я совершенно одобряю твое намерение купить деревню, если только при ней будет вода (только бы не пруд). И тысячу раз ты прав, говоря, что ничего нет хуже в жизни, особенно в семейной, — неопределенного висение между небом и землей. Сто верст по шоссе — приятнейшая поездка. Только повторяю, чтобы была какая-нибудь речка. Да я думаю, что ты и заниматься хозяйством способен. Кстати, что хозяйство Л. Толстого, которое он устраивал и о котором так много говорил? Лечение мое приближается к концу, и авось в апреле доктора отпустят меня, но я так залечился, что в себя еще придти не могу и даже не поверю собственной свободе.
Пожалуйста передайте Толстому, что я ношу его в сердце.
Ваш В. Боткин.
Л. Толстой писал от 27 марта 1860:
Как вы обрадовали меня вашими планами, любезный дяденька, не могу вам сказать. Но обрадовали не одного меня, но и всех наших, начиная от тетушки и даже до пьяного монаха. Трепещу только из-за одного: чтоб из-за какого-нибудь вздора это не разрушилось. Вещественные условия возможности вашего пребывания в Ясной — все, мне кажется, есть. Желание мое, чтоб оно было, так сильно, что я бы сделал эти условия, ежели бы их не было, пробил бы еще три стены и сам бы жил на трубе;- стало быть, это должно быть. Разумеется, тут пропасть маленьких условий, которые нужно определить. В каком доме и в каких комнатах лучше захочет жить Марья Петровна, куда будет входить и выходить Марьюшка и т. д. Да еще, куда поставить лошадей: в особую ли конюшню, на двор ли к мужику за три версты, или к брату в Пирогово? Короста еще есть, и хотя я своих чистых лошадей ставлю в Ясной, ваших лошадей надо будет устроить иначе. Но вообще обо всем надо переговорить. Приезжайте непременно, когда поедете в Серпухов. Как мы будем гулять с Марьей Петровной! она останется довольна садом. Как и о каких славных делах, как-то: педагогии, хозяйстве и пускай хоть и поэзии — мы будем беседовать с вами и Фирдуси. Но ничего, ничего, молчание… Жду вас и вашего ответа. Целую руку Марьи Петровны, и прошу ее в случае затруднений разрешить их на манер Гордиевых узлов, по-женски. В Москву теперь я, должно быть, не приеду. До свидания!
Л. Толстой.