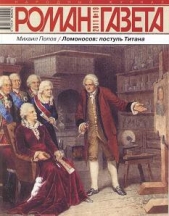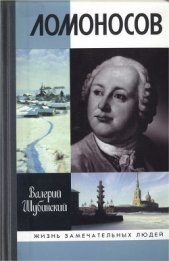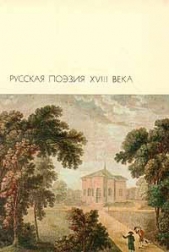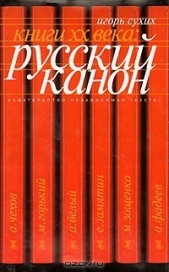Ломоносов
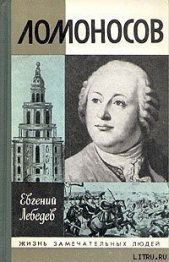
Ломоносов читать книгу онлайн
Книга во многом по-новому излагает обстоятельства жизни и творчества великого русского просветителя, ученого и поэта Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765). Автор показывает гениального сына нашего отечества в неразрывной связи с предыдущей и последующей судьбой российской культуры и просвещения, его глубокую самобытность, всестороннюю блистательную одаренность.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Иными словами: в отличие от всех вас, я стал дворянином («своей чести достиг»), избрав «крайнюю бедность добровольно для учения» (многие ли из вас отказались бы от своего богатства ради высокой цели?); я мог бы вызвать Строганова на дуэль, да уж больно он молод; вы, «милостивый государь Иван Иванович», может быть, думаете, что ваш знакомец не стал бы драться со мною как с бывшим мужиком? — Так знайте, что и я сам уже не вижу нужды в дуэли с бывшим дворянином.
Пройдет семьдесят лет, и другой Александр Сергеевич напишет: «Имена Минина и Ломоносова вдвоем, может быть, перевесят все наши старинные родословные. Но странно было бы их потомству не гордиться сими великими именами». Пушкин через головы двух поколений протягивает руку Ломоносову. И дело здесь даже не в том, что он его имя упоминает. Дело в том, что так же, как Ломоносов, он, доводя до логического конца этику своего сословия, выходит на всечеловеческий простор. Великий плебей Ломоносов учил выходцев из родовитого дворянства: не роняйте своего достоинства. Шестисотлетний дворянин Пушкин учил всех без исключения соотечественников и продолжает учить доселе: помните своих великих предков и гордитесь ими.
Насколько выше стоял Ломоносов своего вельможного окружения в нравственном отношении показывает известная история о том, как Шувалов (не без намерения позабавить себя и знакомых) решил устроить в своем доме комедию «примирения» Ломоносова и Сумарокова.
Прекрасно разобравшись в истинных мотивах, которыми руководствовался его покровитель, Ломоносов по возвращении домой написал ему свое знаменитое письмо, которое едва ли не наизусть знал Пушкин (и цитировал и ссылался на него не однажды):
«Милостивый государь Иван Иванович.
Никто в жизни меня больше не изобидел, как Ваше высокопревосходительство. Призвали Вы меня сегодня к себе, Я думал, может быть, какое-нибудь обрадование будет по моим справедливым прошениям. Вы меня отозвали и тем поманили. Вдруг слышу: помирись с Сумароковым! то есть сделай смех и позор, свяжись с таким человеком, от коего все бегают; и Вы сами не ради. Свяжись с тем человеком, который ничего другого не говорит, как только всех бранит, себя хвалит и бедное свое рифмичество выше всего человеческого знания ставит. Тауберта и Миллера для того только бранит, что не печатают его сочинений, а не ради общей пользы. Я забываю все его озлобления и мстить не хочу никоим образом, и Бог мне не дал злобного сердца. Только дружиться и обходиться с ним никоим образом не могу, испытав через многие случаи, и знаю, каково в крапиву... Не хотя Вас оскорбить отказом при многих кавалерах, показал я Вам послушание; только Вас уверяю, что в последний раз... Ваше высокопревосходительство, имея ныне случай служить отечеству спомоществованием в науках, можете лутчие дела производить, нежели меня мирить с Сумароковым. Зла ему не желаю. Мстить за обиды и не думаю. И только у Господа прошу, чтобы мне с ним не знаться. Будь он человек знающий и искусный, пускай делает пользу отечеству, я по моему малому таланту также готов стараться. А с таким человеком обхождения иметь не могу и не хочу, которой все протчие знания позорит, которых и духу не смыслит. И сие есть истинное мое мнение, кое без всякия страсти ныне Вам представляю. Не токмо у стола знатных господ или у каких земных владетелей дураком быть не хочу, но ниже у самого Господа Бога, который дал мне смысл, пока разве отнимет... Ежели Вам любезно распространение наук в России, ежели мое к Вам усердие не исчезло из памяти, постарайтесь о скором исполнении моих справедливых для пользы отечества прошениях, а о примирении меня с Сумароковым, как о мелочном деле, позабудьте. Ожидая от Вас справедливого ответа, с древним высокопочитанием пребываю
Вашего высокопревосходительства
униженный и покорный слуга
Михайло Ломоносов
1761 года
Генваря 19 дня».
Как многозначителен в письме к баловню судьбы этот каламбур: «вы имеете ныне случай!» Как показателен этот органичный переход Ломоносова от личной обиды к «распространению наук в России»! Вернее, даже и не переход от одного к другому, но именно глубокое слияние одного в другом. Это письмо о личной обиде за русскую науку. Пафос его — воспитательный.
Тем отчетливее проступает высокая нравственность ломоносовского поведения в самом инциденте, который послужил поводом к письму. Ведь в тот январский день 1761 года, в елизаветинском Петербурге, в одном из красивейших и богатейших домов России, в светлом о семи окнах кабинете, в котором радушный хозяин так часто любил сиживать в большом кресле у столика изящной работы в окружении книг и друзей, — в этой обстановке, где все радовало взор, все располагало к возвышенным мыслям о человеке, о величии его разума, о красоте его деяний, — совершалось элементарное попрание человека разумного, его унижение, в котором просвещенная компания находила род удовольствия.
Безнравственность происходящего состояла в том, что никто из присутствующих, за единственным исключением, не считал себя тем, чем он являлся на самом деле. Это был маленький спектакль с четким распределением ролей между участниками: ради восстановления спокойствия на «российском Парнасе» «российский Меценат» мирил «российского Расина» (Сумарокова), с «российским Мальгербом» (Ломоносовым) в присутствии «российских любителей художеств». И только Ломоносов захотел остаться Ломоносовым. Не подыграл!
Отсюда, конечно, не следует, что, скажем, Сумароков, в отличие от Ломоносова, был лишен чувства собственного достоинства. Потомственный дворянин, он впитал в себя понятия о достоинстве, о чести с молоком матери. Он даже выступал в те годы одним из виднейших идеологов русского дворянства, писателем, в полном смысле слова формировавшим моральный кодекс служилого сословия: достаточно прочитать его сатиры, оды, его трагедии, в которых он выступал восторженным и одновременно требовательным проповедником чести и личного достоинства русского дворянина.
Однако, несмотря на все это, Сумароков, как отмечал Пушкин, «был шутом у всех тогдашних вельмож: у Шувалова, у Панина; его дразнили, подстрекали и забавлялись его выходками. Фонвизин... забавлял знатных, передразнивая Александра Петровича в совершенстве. Державин исподтишка писал сатиры на Сумарокова и приезжал как ни в чем не бывало наслаждаться его бешенством».
Для писателя-классициста, резонера по преимуществу, сознательно делавшего в своем творчестве ставку на убеждение, на дидактику, — для такого писателя столкнуться с подобным отношением к себе и своим идеям означало трагедию, катастрофу.
Сумароков попытался впоследствии давать уроки и Екатерине II. Не ограничиваясь одами, где «воспитание» императрицы велось иносказательно, он одолевал ее записками, в которых излагал важные, с его точки зрения, политические мысли, мечтал увидеть в ней истинно дворянскую монархиню, то есть во всем послушную воле служилого сословия. Когда императрице стало совсем невмоготу от просветительских домоганий «русского Расина», она его урезонила: «Господин Сумароков — поэт, и довольной связи в мыслях не имеет».
Но, несмотря на удручающее нежелание царицы считаться с его мнением, несмотря на сопротивление сословных братьев, упорно не хотевших перевоспитываться по его советам, Сумароков продолжал борьбу за свои идеалы с нечеловеческим напряжением всех сил души, благородно отвергая всякий компромисс, всякую возможность (хотя бы для себя!) поступиться этими идеалами. Он боролся, как трагический герой классицистской пьесы, а в глазах окружения выглядел скорее персонажем классицистской же, но комедии. В полном соответствии с канонами нормативной эстетики среда, к которой он обращался и во имя интересов которой он выступал, ревизовала нравственно-философское содержание его литературной и общественной деятельности, «уценила» его на несколько порядков и из сферы возвышенной действительности перевела его в сферу действительности низкой.
Точно так же, как классицистский герой должен был в одном и том же доме, на протяжении одних и тех же суток, в общении с одними и теми же лицами решить роковую проблему, мучительный вопрос, от которого зависит его жизнь и смерть, — Сумароков был приговорен судьбою к отысканию истины «в пределах дворянского горизонта». А вернее — он сам обрек себя на это.