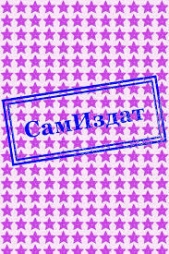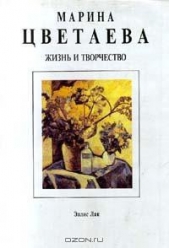Марина Цветаева

Марина Цветаева читать книгу онлайн
Биография Марины Цветаевой полна драматизма, как судьбы многих героев Серебряного века. И все же жизнь этой женщины-поэта не похожа на жизнь большинства ее современников. Борясь с труднейшей реальностью, преодолевая быт, Цветаева жила на высотах духа, открывая читателям просторы Бытия.
Книга Виктории Швейцер – исследование, написанное на основе многолетней работы в архивах, встреч со знавшими Цветаеву людьми, серьезного и плодотворного анализа ее творчества. Автор повествует о своей героине с мудрой любовью понимания, приближая читателя к неповторимому миру этой высокой и одинокой души.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В «Искусстве при свете Совести», начатом вскоре после окончания «Стихов к Пушкину», Цветаева делает следующий шаг в своей «пушкиниане». Новый жанр – проза – позволил ей то, что было невозможно в стихах, – рассуждение. Разбирая Песню Вальсингама из «Пира во время чумы», Цветаева проникает в психологию поэтического творчества. В «Стихах к Пушкину» она признавалась в ощущении родства с великим поэтом:
Теперь она погружает нас в Пушкина, пишет о нем «изнутри», как сам Пушкин, по ее убеждению, писал Вальсингама в «Пире во время чумы», как вообще создаются поэтические образы. Цветаева пишет изнутри собственного опыта, ибо такие глубины рождения стиха доступны только поэту. Она отождествляет Пушкина с Вальсингамом, чтобы продемонстрировать читателю самый процесс «наития» и «преодоления» стихий поэтом. Примером вальсингамовой-пушкинской Песни Цветаева подтверждает главный тезис своей статьи о над-нравственной природе искусства. Песня – как Поэзия вообще – высшее проявление Чары – прославление стихии – в конце концов, с точки зрения религии – кощунство. Преодолев чару песней, разделавшись с нею и тем самым спасшись лично, поэт этой же песней чару на читателя «наводит», ибо невозможно устоять перед соблазном настоящей поэзии, в частности пушкинских строк:
«Искусство – искус, – утверждает Цветаева, – может быть, самый последний, самый тонкий, самый неодолимый соблазн земли...» Анализируя «Пир», Цветаева развивает мысль, высказанную еще в «Поэте о критике»: «вещь, путем меня, сама себя пишет», – мысль, бывшую ее глубоким убеждением, никогда не изменившимся. Это подтверждается и другими настоящими поэтами, в частности Тицианом Табидзе и Борисом Пастернаком, переведшим с грузинского эти стихи Табидзе:
«Искусство при свете Совести» написано ради утверждения этой мысли. Говоря о гениальности Пушкина, не уравновесившего Гимна чуме – молитвой и тем самым оставившего читателя под чарой чумы и гибели, Цветаева добавляет: «О всем этом Пушкин навряд ли думал. Задумать вещь можно только назад, от последнего пройденного шага к первому, пройти взрячую тот путь, который прошел вслепую». Но именно эта подвластность поэта стихиям и неподвластность поэту вещи, которая «сама себя пишет», послужит ему оправданием на Страшном суде слова. Губительно для поэта, когда «рука опережает слух», когда он на мгновение выскальзывает из-под власти наития. Это случается даже с гением. Цветаева показывает, что последние две строки Гимна чуме не только ничего не добавляют к предыдущим, но противостоят им, с высоты чары низвергаясь на уровень «только-авторского» сочинительства. Цветаева дает «пушкиньянцам» пример смелости в толковании пушкинского текста. Вспоминая свое первое, дошкольное чтение Пушкина («Мой Пушкин»), она «споткнулась» о знаменитую «Птичку Божию», которая «не знает /Ни заботы, ни труда»: «Так что же она тогда делает? И кто же тогда вьет гнездо? И есть ли вообще такие птички?..» Цветаева без обиняков заявляет, что таких «птичек» не бывает, что «эти стихи явно написаны про бабочку», что пушкинская «птичка – поэтическая вольность». Это был «ее Пушкин», перед которым не надо было «благоговеть», которого надо было читать, знать, любить, у которого учиться. Проза подтверждала с вызовом брошенное в стихах:
С ней жил свободный дух Пушкина, она преломляла его в себе, он сопутствовал ей в любую минуту жизни. Потрясенная женитьбой Пастернака, Цветаева писала в уже цитированном письме к Р. Ломоносовой: «Живу. Последняя ставка на человека. Но остается работа и дети и пушкинское: "На свете счастья нет, но есть покой и воля"...» Среди трех окончательных ценностей, сохраняющихся дальше «последней ставки на человека», Цветаева называет Пушкина – вне возможности разочарования, такой же бесспорностью, как само существование ее детей. Работа, дети, Пушкин – именно в этой последовательности – то, что пребудет с ней до конца. Это дает ей свободу понимать и толковать Пушкина; так в этом письме она по-своему применяет его понятие «воля»: «...которую Пушкин употребил как: „свобода“, я же: воля к чему-нибудь: к той же работе. Словом, советское „Герой ТРУДА“...» И дальше она рассуждает о наследственности своего трудолюбия, чувства долга и ответственности.
Теоретические построения Цветаевой составляют нерасторжимое целое с логикой литературного анализа. Три маленькие главки в «Искусстве при свете Совести» – «Поэт и стихии», «Гений», «Пушкин и Вальсингам» – посвящены «Пиру во время чумы». Сила цветаевской логики такова, что, разобрав только Песню Вальсингама, она по существу сказала все о «Пире во время чумы» и больше, чем только о «Пире», – о внутреннем мире Пушкина. В ходе рассуждений о нравственной силе и над-нравственности искусства Цветаевой понадобились ссылки на Гёте, Льва Толстого, Гоголя, Маяковского, однако лишь Пушкин на крохотном плацдарме «Пира» предстал во весь рост. Ближе к концу «Искусства при свете Совести» Цветаева вновь обращается к Пушкину – как будто для того, чтобы сделать заявку на будущую работу «Пушкин и Пугачев». Размышляя о «своем» и «чужом» для поэта, она ссылается на пример Пушкина, «присвоившего» в «Скупом рыцаре» «даже скупость... в Сальери – даже бездарность». И внезапно переходит к себе: «Не по примете же чуждости, а именно по примете родности стучался в меня Пугачев». Это тем более неожиданно, что ни в стихах, ни в прозе она о Пугачеве до этого не писала: «за Пугачева не умру – значит не мое». Пройдет пять лет, и появится «Пушкин и Пугачев» – Пушкин породнит Цветаеву с Пугачевым. Это будет последнее у нее о Пушкине, последнее обращение к детству, вообще – последняя работа о литературе. На мой взгляд, «Пушкин и Пугачев» – лучшее, что написала Цветаева в этом роде, этап, открывавший новые возможности ее прозы.