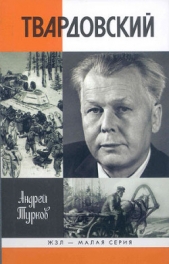Родина и чужбина

Родина и чужбина читать книгу онлайн
Воспоминания родного брата поэта Александра Твардовского. Раскулачивание, ссылка, плен, лагеря - в общем обычная жизнь в России 20 века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Назовите, пожалуйста, свою фамилию. Я назвал с добавлением имени и отчества.
— Ой! Я рада вас видеть, Иван Трифонович! Я так много наслышана о вас как об удивительном мастере. Рада сообщить, что вы очень скоро освобождаетесь.
Она нашла мой формуляр и сказала:
— Ну вот, ваш срок окончится двадцать седьмого мая — чуть больше месяца осталось.
Я поблагодарил ее за внимание и хотел уже уйти, но она, смущаясь, добавила:
— Извините меня, Иван Трифонович! Мне очень неудобно, не осудите меня, но я хочу просить вас… Будьте так добры, сделайте мне браслет для наручных часов. И, пожалуйста, дайте слово, что зайдете к нам в день вашего отъезда. Вы будете нашим гостем, мой муж будет очень рад вас видеть.
Да, дорогой читатель, не усомнитесь, я пишу истинную правду. Понимаю, что так бывает очень-очень редко, но так было.
Очень сожалею, что не могу назвать многие имена тех, с кем случалось встречаться, иметь откровенные беседы, слышать слова признательности.
Накануне дня освобождения в мастерскую ко мне пришел новый начальник Чукотлага Григорьев, кажется, майор. Он сердечно поздравил меня с освобождением. Я его видел впервые, но вот назвал он меня по имени-отчеству.
Днем моего освобождения из Чукотлага было действительно 27 мая 1952 года. В лагере я пробыл пять лет четыре месяца двадцать дней.
Прежде чем выйти за ворота, нужно было одеться в гражданское платье. Где его взять? Слыхал, что в магазинах поселка ничего подходящего нет, да и не хотелось появляться на людях в лагерной шкуре. Подсказал какой-то «шестерка», что все можно найти у "дяди Саши". Я спросил: "Не обманет?" — "Что ты! Разве позволит вор в законе обмануть? Идем!" Вот ведь как было. Четыре года провел на Чукотке, но никаких «дядей» не знал, мне они были совсем неведомы. Я согласился пойти.
В глубине барака, в углу, была отгорожена одеялами на проволоке кабинка. «Шестерка» боязливо спросил: "Можно, дядя Саша, по делу?" Послышался голос: "Кто?" — "Это я, дядя Саша, Морж!"
Через минуту мне было позволено выбрать то, что меня могло устроить. Надетые на плечики, висели над второй заправленной койкой десятка полтора костюмов и пиджаков. Я, конечно, понимал, что все это было когда-то с кого-то снято так же, как сняли с меня в Иркутской пересылке в 1947 году; может, и выиграно. Но для меня в тот момент это роли не играло. Я подобрал по себе хорошо выглаженные темные брюки и светлый цветной пиджак, спросил о цене. "Шестьсот рэ", — был ответ. Я отсчитал деньги, подал и сказал: "Проверьте, пожалуйста!" В тот момент «шестерка» толкнул меня рукой и шикнул: "Ты что! Вор никогда не проверяет". «Дядя» небрежно, без слов, сунул в нагрудный карман деньги и тут же принял на второй взъерошенной койке горизонтальное положение.
Не буду описывать, как искал сорочки, туфли, кепку. Все это я нашел, хотя и не без хлопот. Пришел час, и я навсегда покидал «исправительное» заведение. Сразу же — на почту, послал телеграмму жене.
Но моя великая радость сменилась непредвиденной печалью: при получении справки об освобождении из заключения мне было объявлено, что есть указание, что освобождающиеся по зачетам обязаны половину сокращенного срока отработать в Дальстрое по вольному найму. "Боже мой! Что за напасть?! — гудело в моем перенапряженном сознании. — За что же? Почему об этом не было сказано сразу, при объявлении постановления о применении зачетов?" Было сверхдосадно. Только послал телеграмму жене, и вот ее теперь надо терзать добавкой ожидания. Нет, не описать мне той горечи, с которой я должен был оформляться в отделе кадров в ту же мастерскую, которую успел только что сдать своему ученику. И никаким образом ничего нельзя было изменить.
Пришлось смириться. Договорился с молодой четой, приехавшей из Нижнего Новгорода, чтобы занять в их квартире угол. Пообещал платить тысячу рублей в месяц, чтобы и столоваться вместе с ними. Согласились. Спасибо им из моего сегодня! Хорошие были люди Витенька и Наденька Овчинниковы.
Кажется, 20 ноября встретился мне начальник отдела кадров управления Чукотстроя Михайленко. Я его узнал с того дня, как он объявлял мне строгий выговор за «грубость» при оформлении меня на работу по вольному найму. Был такой случай. Михайленко остановил меня:
— Твардовский! Слушай, пожалуйста. Есть возможность уехать тебе, но пойми, нужно срочно отгравировать рельефом так, как это ты делаешь, один моржовый клык. Только и всего. Пароход уходит 24–25 ноября, ждет ледокола. Делай хоть ночью, хоть днем и тащи эту вещь ко мне на квартиру.
Ну что тут мне было отвечать? Конечно, я бросил все и вся, схватил у него свежий клык, как назло редчайшей длины, и помчался к себе в мастерскую. Ночь напролет работал без устали, и все так хорошо получалось, что даже сам был доволен, что бывало далеко не всегда. Через день, в полдень, — к Михайленко — знал, что он будет дома. С собой еще прихватил то, что берег для жены. Показал. Гляжу, какая реакция. Он:
— Вещь стоящая. Признаюсь. Но слушай, платить могу тебе только тем, что устрою выезд. Не будь мелочным! — Да Боже мой, сохрани и помилуй, т-т-товарищ Михайленко!
О какой еще оплате смею думать?!
— Приходи в три часа в управление и точка! Поедешь, как член ЦК в каюте старшего помощника капитана. Ясно?
— Ясно, товарищ Михайленко.
В тот же день я узнал, что еду не только я, а еще человек триста. Встретил врача Маркова, давно знал его по рассказам аптекаря Парамоныча. Решили навестить старика. Нашли его в бывшей землянке хирурга Калицкого. Да, сдал Илья Парамоныч. Но узнал. Обрадовался. Поздравил меня и Маркова с освобождением, с отъездом. Но только подумать: когда я делал у него аптечный стол, он уже тогда был в заключении более десяти лет. И тогда он говорил:
— Моя жена иногда упрекала меня за то, что в нашей жизни для меня было самым главным — партия. На втором месте — служба. На третьем — семья. А жена говорила, что были бы мы счастливы, если бы было все наоборот: семья, служба, партия.
Значит, моя последняя встреча с Ильей Паромонычем была, когда он провожал шестнадцатый год в заключении. Один глаз у него был с большим отеком, и я спросил, с чем это связано. Он ответил: