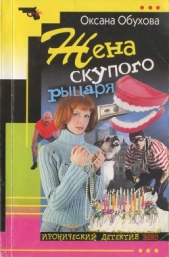За полвека. Воспоминания

За полвека. Воспоминания читать книгу онлайн
Петр Дмитриевич Боборыкин (1836-1921), создатель русского слова `интеллигент`, автор популярнейших романов: `Дельцы`, `Китай-город`, `Василий Теркин` и многих других, был `европеец не только по манерам, привычкам, образованности и близкому знакомству с заграничной жизнью, но европеец в лучшем смысле слова, служивший всю жизнь высшим идеалам общечеловеческой культуры, без национальной, племенной и религиозной исключительности. Вдумчивая отзывчивость на злобу дня... требует большой наблюдательности. И этим качеством Боборыкин обладал в высшей степени. Жизнь общества в данный момент, костюмы, характер разговоров, перемены моды, житейские вкусы, обстановка, обычаи, развлечения и повадки... русских людей у себя и за границей изображены им с занимательной точностью и подробностями`.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И в венских газетах уже и тогда развилась — до степени махровой специальности — сексуальная и порнографическая публичность: обычай читать целые столбцы и страницы объявлений не только по части брачных предложений, но со всевозможными видами любовной корреспонденции и прямо публичной и тайной проституции, продажности не только со стороны женщин, но и от разных «кавалеров». Это проникло и к нам, но только тридцать лет спустя. И каждый венец за утренним и вечерним кофе накидывается и до сих пор на эти специфические объявления, письма и предложения. Без них ему никакая газета не будет «всласть». Поэтому ни в какой столице мира (не исключая и Парижа) не происходит такой беспрерывной и несмолкаемой игры в забавные похождения и всякие формы эротизма, половой распущенности и торговли своим грешным телом — и вовсе не в одной сфере проституции, а во всех классах общества.
Венский фашинг того времени еще полон был чувственной жизненности и всяких позывов к развеселому житью, которые совсем не притихли всего каких-нибудь два года после разгрома Австрии на полях Садовой. Об этом что-то никто не тужил.
Империя сделалась дуалистической, и когда-то крамольные венгерцы теперь как бы спасали империю той ролью, какую они стали играть.
Венцы и венки справляли фашинг по балам, маскарадам и Promenade концертам — тогда еще настоящее венское удовольствие, неизвестное ни в Берлине, ни в Париже, дешевое и очень приятное. Кроме военных хоров, играл оркестр Штрауса. Все трое братьев были еще тогда живы. Иоганн уже перешел от сочинений вальсов к оперетке; а Иосиф и Эди (Эдуард) попеременно выступали капельмейстерами в разных залах, не с одной только палочкой, но и со скрипками. Иосиф был очень талантлив как композитор бальной музыки и скрипач, но его хмурое лицо не могло очень весело настроивать залу. Зато Эди, менее даровитый и как композитор, и как скрипач, постоянно подпрыгивал под такт, франтоватый, подзавитой и с усиками в ниточку.
Легкость нравов во время фашинга делалась еще откровеннее, но все-таки на публичных балах и в маскарадах вы не видали такого сухого цинизма, как в тогдашнем Париже, — даже и в знаменитом заведений Шперля с его ежедневными объявлениями в «Tagblatt'e», где неизменно говорилось, что у Шперля балы более чем хороши и что каждый иностранец идет к Шперлю. И в самом деле, каждый приезжий мужчина, холостой или женатый, после театра отправлялся в этот общедоступный притон (если посмотреть построже) и кутил там до зари.
В Вене тип кокотки высшей марки еще не создавался, зато легких женщин всяких рангов и цен, начиная с кельнерши и гувернантки и кончая певичками и танцовщицами, город был полон. Да и в бюргерстве, в мелком чиновничестве и даже в светском кругу доступность женщин была и тогда такая же, как и теперь, в начале XX века.
В дворцовых залах, известных под именем «Reduten-Sale», в фашинг давались маскарады высшего сорта. Тут эрцгерцоги, дипломаты, генералы, министры смешивались с толпой масок. Это напоминало петербургские маскарады моей первой молодости в Большом театре и в Купеческом клубе — в том доме, где теперь Учетный банк.
Там можно было видеть веселого старика с наружностью отставного унтера, в черном сюртуке — дядю императора, окруженного всегда разноцветными домино. Тут же прохаживался с маской под руку и тогдашний первый министр Бейст, взятый на австрийскую службу из Саксонии — для водворения равновесия в потрясенной монархии Габсбургов.
Мой венский сезон не прошел для меня и без экскурсий в мир университетской науки, больше через посредство русских молодых людей — медиков и натуралистов.
Интересовала меня и славянская молодежь. Ко мне ходил и давал мне уроки языка один чех с немецкой фамилией, от которого я узнал много о том, что делается в Чехии и других славянских странах, особенно в Далмации. С далматинцами он много водился и, так же как и они, свободно говорил по-итальянски. Другой чешский патриот, званием фармацевт, был страстный поклонник России и стремился в Петербург слушать лекции Драгомирова, тогда профессора Военной академии, с целью усовершенствовать себя в теории «уличной войны». Но революционера из него не вышло. Да и вообще тогдашнее славянское движение, как и впоследствии, не имело нашего подпольного характера.
В славянофилах я никогда не состоял. Не увлекался никогда и идеей панславизма, но охотно пошел на приглашение студентов общества галицийских русских «Основа» — иметь у них беседы о русской литературе.
Это были в большинстве сторонники того направления, которого держалась тогдашняя консервативно-русофильская пресса. Но и среди них уже назревало нечто более народническое, однако без крайних украинофильских мечтаний. Говорили и писали эти молодые люди на том смешанном и смешноватом семинарско-российском диалекте, какого и до сих пор, вероятно, держатся в Галиции консервативные русины.
Это слово «Russin» и «Russinischer» создано было австрийским правительством, и официально «Основа» именовалась «Russinischer Grundstein».
И эти полухохлы и другие братья славяне из бедных студентов по необходимости льнули к тому очагу русского воздействия, который представлял собою дом тогдашнего настоятеля посольской церкви, протоиерея Раевского.
Этот радетель славяно-русского дела был типичный образец заграничного батюшки, который сумел очень ловко поставить свой дом центром русского воздействия под шумок на братьев славян, нуждавшихся во всякого рода — правда, очень некрупных — подачках. У него каждую неделю были и утренние приемы, после обедни, и вечерние.
Там можно было всегда встретить и заезжих университетских молодых людей, и славянскую молодежь.
Мне лично гораздо симпатичнее был псаломщик посольской церкви, некий В., от которого я много наслышался о политике отца протоиерея. Псаломщик этот, бывший учитель, порывался все назад в Россию. Его возмущало то, что он видел фальшивого и самодурного в натуре и поведении своего духовного принципала. В моих «Дельцах» есть лицо, похожее на личность и судьбу этого псаломщика. Он кончил, кажется, очень печально, но как именно — в точности не припомню.
Из русских, с какими я чаще встречался, двое уже покойники: нижегородец из купцов У., занимавшийся тогда изучением микроскопической анатомии. Он впоследствии получил кафедру и умер после долгой душевной болезни. Позднее я с ним встречался в Берлине.
Кажется, через него или через протоиерея Раевского, познакомился я с заезжим отставным кавалеристом, князем Е-товым, балетоманом и любителем театра, тогда еще богатым помещиком. Он приехал в Вену лечиться и привез с собою, как бы в качестве домашнего врача, молодого, очень красивого малого, только что кончившего курс в Москве и игравшего приятно на виолончели. Этот виолончелист-терапевт сделался впоследствии одним из ассистентов Захарьина и сам сделался профессором терапевтической клиники и доживает теперь в звании московской медицинской знаменитости.
Славянские студенты дали в конце сезона большой вечер с речами. Меня просили говорить, и это была единственная во всю мою жизнь немецкая речь. А немецкий язык и тут сослужил роль междуславянского языка.
Хотя я с детства говорил по-немецки, в Дерпте учился и сдавал экзамен на этом языке, много переводил — и все-таки никогда ничего не писал и не печатал по-немецки.
Моя речь появилась в каком-то венском листке. В ней я-с австрийской точки — высказывался достаточно смело, но полицейский комиссар, сидевший тут, ни меня, никаких других ораторов не останавливал.
Вообще особо строгого полицейского надзора мы, русские, не чувствовали. Всего раз, да и то в мой следующий приезд, меня пригласили к комиссару, и он, весьма добродушно и как бы конфузясь, спрашивал меня, чем я занимаюсь и долго ли намерен пробыть в Вене. Тем это и покончилось.
В Чехии готовились к трехсотлетней годовщине Яна Гуса.
Мне представлялся очень удачный случай побывать еще раз в Праге — в первый раз я был там также, и я, перед возвращением в Париж, поехал на эти празднества и писал о них в те газеты, куда продолжал корреспондировать. Туда же отправлялся и П.И.Вейнберг. Я его не видал с Петербурга, с 1865 года. Он уже успел тем временем опять «всплыть» и получить место профессора русской литературы в Варшавском университете.