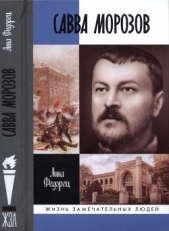Савва Мамонтов

Савва Мамонтов читать книгу онлайн
Книга известного писателя и публициста В. А. Бахревского представляет биографию одного из ярких деятелей отечественной истории. Савва Мамонтов — потомственный купец, предприниматель, меценат, деятель культуры. Строитель железных дорог в России, он стал создателем знаменитого абрамцевского кружка-товарищества, сыгравшего огромную роль в судьбе художников — Репина. Поленова. Серова, Врубеля, братьев Васнецовых, Коровина, Нестерова.
Мамонтов создал Частную оперу, которая открыла талант Шаляпина, дала широкую дорогу русской опере — произведениям Чайковского, Римского-Корсакова, Бородина, Мусоргского, Даргомыжского, Верстовского, заложила основы русской вокальной школы и национального оперного театра.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Савва Иванович опустился на краешек постели. Лицом размяк, а лоб мыслью стянуло.
— Ты думаешь, неудачно я придумал? — спросил Василий Дмитриевич.
— Вася, только вы и спасете меня из ямы этой… Мне остается пожалеть, что мало делал для художников доброго.
— Не о том речь. Ты наша печь, русская печь-матушка. Мы же все грелись возле тебя.
Заскрежетали засовы, в камеру вошел надзиратель. Поленов поднялся, поднялся Савва Иванович:
— Спасибо тебе, Вася! Ты как Архангел с небес. Поклонился вдруг. И Василий Дмитриевич поклонился.
Пошел, не дожидаясь, когда надзиратель прикажет. В дверях остановился и снова отдал земной поклон. Савва Иванович казался махоньким старичком.
В письме товарищу прокурора Москвы А. А. Лопухину Поленов писал 16 октября 1899 года: «Сегодня я воспользовался разрешенным Вами мне свиданием с Саввой Ивановичем Мамонтовым и спешу самым сердечным образом благодарить Вас за этот истинно человеколюбивый поступок… Мне показалось, что состояние его здоровья внушает серьезные опасения… Происшедший вчера утром обморок с удушьем и, вероятно, ослаблением деятельности сердца, о чем Вы, конечно, уже осведомлены, внушает мне опасения за его жизнь… Извините решимость, с которой я обращаюсь к Вам с просьбой заменить Савве Ивановичу это заключение домашним арестом… Мне говорили, что заключение его, между прочим, является мерою к предупреждению самоубийства. Так долго и так близко зная С. И., я не могу допустить этой мысли. Я уверен, что он всегда найдет в себе достаточно силы духа, чтобы перенести испытание».
Мысль Поленова поднять художников на защиту собрата, само участие преобразило Савву Ивановича. Он писал через несколько дней Василию Дмитриевичу: «Твое посещение было мне не только отрадно, но прямо живительно, как благодатный дождь, упавший на засыхающую ниву… Ты сказал мне мысль, которая может иметь самый победоносный результат по отношению к моей художественной деятельности. Если ты, Васнецов, Репин, Антокольский, Суриков — словом, русские авторитетные художественные силы, — могут примкнуть и другие (позднейшие формации), — скажете искренно, смело свое слово, свое определенное художественное мнение, то из этого может вырасти такой цветок, который всех нас будет до конца дней радовать… Надо решительно, твердым словом повлиять на общество, а это более чем возможно».
Следующим посетителем тюремного сидельца была Елизавета Григорьевна. Савва Иванович вышел к ней в смятении, какое испытал в иной, в давно прожитой жизни, в Ницце. Но тогда он знал, что должен сказать, тогда решалась его судьба. Теперь сказать было нечего, и в судьбе была записана, может, уже последняя страница.
Они встретились глазами в то самое мгновение, как вошел он в комнату свиданий. И он опустил глаза.
— Я была на «Ожерелье», — сказала Елизавета Григорьевна. — Очень красиво. Музыка, сюжет… Василий Дмитриевич и Коровин сделали изумительные декорации.
Савва Иванович не ожидал, что Елизавета Григорьевна заговорит об опере, о том его детище, которое она считала своим несчастьем.
— Как же это Костенька так расхрабрился? Слух был, узнавши о моем аресте, он все письма мои сжег…
— Сережа был у Витте. Принял любезно.
— А теперь следователи переворачивают вверх дном документацию Невского завода… Как Вера, Саша?
— Все хорошо.
Савва Иванович только теперь поднял глаза:
— Вот как я тебе дался. Столько горя от одного.
— Ты дал мне счастье, Савва. Детей. Жизнь, полную смысла. Я никогда не сетовала на судьбу. Я благодарна Господу… и тебе.
— Ах, Лиза! — вырвалось у него, и больше нечего было сказать.
Время уже кончилось, конвоир деликатно кашлянул. Савва Иванович быстро сказал:
— Ни перед кем более, перед тобой виновен.
Строгое прекрасное лицо, строгие любящие глаза. И ничего уже нельзя поправить.
Шок, поразивший Мамонтовых и всех друзей семьи, миновал. Пошли послабления от судебных властей. Хоть и трудно было добиться свидания с подследственным, но самые настойчивые получали разрешение. Пробились Серов и Коровин.
В приемную комнату для свиданий Савва Иванович вышел в своем платье, не в арестантском, улыбался.
— Рад, — сказал Серову, пожал руки обоим, но на Коровина не смотрел, будто это был чужой, лишний человек. — Какую знаменитость, Антон, теперь пишешь? И вообще какие дела на воле?
— Готовимся к Всемирной Парижской выставке. Хотели часть картин, назначенных на выставку, показать на Дягилевской, в музее Штиглица. А господин Остроухов взбрыкнул, не дал. В том числе портрет супруги, мною написанный.
— Кто участвует в выставке?
— Тридцать картин дает Левитан, шестнадцать моих. Выцарапали у Ильи Семеновича панно Аполлинария Васнецова «Сказка о рыбаке и рыбке» и большую картину Бакста «Адмирал Авелан в Париже». Нестеров дает картины, Костя дает, — покосился на Коровина, но Савва Иванович опять никак не отозвался на приглашение увидеть своего любимца.
— А почему Илья настроен против Дягилевской выставки?
— По глупости. Выставка уж тем замечательна, что весь модерн русский. Ни одной заграничной картины. Илья Семенович этому рад. А не хочет ничего отпускать из своей коллекции, потому что дал зарок. Дягилев одну из его картин после первой международной выставки вернул помятой.
— Савва Иванович! — с надрывом сказал Коровин. — Да посмотри же ты на меня. Что я тебе, чужой? Ну, слаб! Каюсь! За Шаляпиным потащился… Я в Петербург еду, найду Витте, буду говорить о тебе.
— Вот и хорошо, поговори, — сказал Савва Иванович, но на Костеньку все-таки не взглянул.
— Давайте о деле поговорим, — нахмурился Серов. — Савва, какая вина тебе вменяется? Мы были у твоего адвоката Муромцева — не знает. Были у Цубербиллера, это он нам дал разрешение на свидание, — тоже о твоей вине ничего не знает. С Кривошеиным говорили, с Чоколовым… В чем твоя вина?
— Я не знаю.
— Свидание окончено! — объявил тюремный надзиратель.
В автобиографических заметках «Моя жизнь» Коровин так написал о разговоре с Витте: «Сергей Юлиевич, к моему удивлению, сказал мне, что он тоже не знает акта обвинения Мамонтова.
— Против Саввы Ивановича, — сказал он, — всегда было много нападок. И на обвинение его „Новым временем“ в растрате он как душеприказчик чижовских капиталов ничего не ответил. А когда это дошло до царя, то он спросил меня, и я тоже не мог ничего сказать. Но Савва Иванович, когда я его просил это выяснить, предоставил отчет. Оставленные Чижовым капиталы он увеличил в три раза, и все деньги были в наличности. Молчание Саввы Ивановича, которое носит явную форму презрения к клевете, могло и сейчас сыграть такую же характерную для него роль. Я знаю, что Мамонтов честный человек, и в этом совершенно уверен.
И Витте, прощаясь со мной, как-то в сторону сказал про кого-то:
— Что делать, сердца нет…»
Весь Витте в этом разговоре. Солгал, показал дружелюбие к бедному, к чистому Мамонтову и возвел напраслину… на царя.
Палитра была приготовлена. Свет из окон лился матовый, но напоенный солнцем, — чудесный февральский свет, свет перед половодьем света.
Государь назначил время сеанса сразу после обеда, но задерживался. Валентину Александровичу было жаль потерять даже минуты этого дивного освещения.
— Я уже здесь, — сказал Николай Александрович, улыбаясь, занимая место. — Я правильно сел?
— Да, Ваше Величество. Вы совершенно точно запомнили все мои ужасные просьбы.
Серов взялся за кисти.
Работал молча, и государь молчал, чтобы не помешать художнику. За обедом выпили водки, с морозцу, и это молчание, этот загадочно-баюкающий свет из окна потянул в дрему. Лицо у государя стало открытым, доверчиво-детским, чистым. У Серова сжалось сердце: ему, художнику далеко не мировой известности, дано видеть государя так близко, таким… беззащитным. Как же он живет, великий самодержец, в этой круговерти тайных государственных дел, в этой узаконенной лжи, политической, придворной, семейной? Как он может нести на себе, молодой совсем, бесхитростный человек, это чудовищное бремя вожделений? Сколько глаз сверкает из тьмы, впивается в него, ожидая милостей, даров, чинов или только куска хлеба.