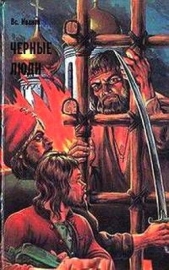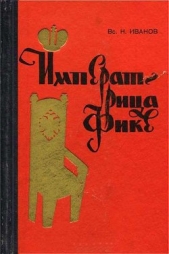Красный лик

Красный лик читать книгу онлайн
Сборник произведений известного российского писателя Всеволода Никаноровича Иванова (1888–1971) включает мемуары и публицистику, относящиеся к зарубежному периоду его жизни в 1920-е годы. Автор стал очевидцем и участником драматических событий отечественной истории, которые развернулись после революции 1917 года, во время Гражданской войны в Сибири и на Дальнем Востоке. Отдельный раздел в книге посвящён политической и культурной жизни эмиграции в Русском Китае. Впервые собраны статьи из эмигрантской периодики, они публиковались в «Вечерней газете» (Владивосток) и в газете «Гун-Бао» (Харбин). Эти статьи отражают эволюцию ярких, оригинальных взглядов В. Н. Иванова на вопросы русской истории и культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Если бы Варшавский и прочие зарубежные писатели помнили о той России, которую они представляли, то они не были бы так потрясены; они бы не передавали бы, захлёбываясь, о благодеяниях сербов, о том, что «газету обещали открыть», «журнал обещали основать», где могут снова упражняться «в науках и безверьи профессора», а главное, они не говорили бы, что съезд в Белграде заставил их вспомнить о том, что они русские…
— Разве это можно было забывать?!
Этот съезд заставил вспомнить их, что они русские, и объединиться…
В современных протекающих событиях так подчас и видишь повторение пройденного из истории: не угодно ли повторения истории с варягами… Сначала было большое и обильное государство, но в нём царили драки. Позвали варягов — и стал порядок.
Пока не съездили в Белград — в русской эмиграции и журналистике были извечная склока и споры; а как побывали у сербов:
— Атмосфера Белграда была такова, что требовала объединения, — пишет растроганный С. Варшавский.
Всем известно, что для того чтобы русский человек полез в объединительные объятия, непременно требуется некоторая подогретость атмосферы, почему объединения всего лучше удаются на банкетах…
Говорятся речи, хлопают шампанские пробки, звенят поцелуи, а на другое трезвое утро начинается старая волынка с подсиживанием…
Вот почему мы сомневаемся, что из объединения в Белграде — выйдет что-нибудь прочное. Праздники — так быстролётны, так долги скучные будни.
Мы не сомневаемся, что в Сербии образуется газета, что около неё соберётся кружок писучих людей, что они будут говорить «о жизни, о думе, о родине»… что в журнале будут писать длинно и скучно о «принципах и точках зрения»; но всё-таки настоящее объединение воссияет не оттуда: оно воссияет от тех, кто никогда не отрекался от славной истории России, кто не отрекается от неё и сейчас, кто горд тем, что он русский и лучше других сознаёт свои и своих предков заслуги, но не кичится ими, кто не может в пять минут уверовать в звезду славянства, если он никогда не интересовался ею в течение предыдущих каких-нибудь 60-ти лет своей жизни, а главное, кто подозрительным образом относится к разным варягам… Довольно варягов!
На белградском съезде было объявлено, кроме того, что российской эмиграции даруется институт по изучению России… Не будет ли хорошо, если первым предметом, подлежащим изучению в этом институте, будет любопытное свойство русских кричать «ура» всякому чужаку и наоборот, плотно вгрызаясь в горло, валить на землю и грызть до конца своего же…
Не верит сам себе русский человек, не любит он, не терпит самостоятельного мнения, авторитетика требует, подай ему или «всемирную науку», или «просвещённую нацию», или короля, какого ни на есть.
Вот тогда он — руки по швам, «ура» и готов положить жизнь, как свою, так и чужую…
А организоваться так, чтобы своего же брата слушать, — это он не может… Варяга, варяга ему подай! Варяга!
Запад или Восток?
Мы плохо знаем историю и быт русских предков, примерно — до царя Петра; про царя Петра — мы знаем, что он был «западник», что он «просветил» тёмное царство и что с него-де и начался свет на Руси.
Поэтому мы знаем русский быт, начиная, примерно, с царя Петра, причём в изображении его обращаем внимание на черты, сходные с нашим современным бытом, которым жил верхний слой русской интеллигенции в широком смысле.
Всё, что не подходит под этот масштаб, нами относится к «темноте» и «непросвещённости» тех времён и, следовательно, заранее обрекается как бы на умирание и на забвение. Мы не ошибёмся, если скажем, что «тёмное царство» Островского — есть именно этот загодя огулом осуждённый быт старой Москвы, выпирающей из немецкого кургузого платья.
А между тем это русское море быта огромно, и в продолжение всей петровской эпохи оно глубоко лежит в самом русском народе.
Да даже и та французская культура, которая переселилась на Русь в екатерининский блестящий век, приобрела свой грандиозный размах, будучи привита на огромное русское азиатского корня дерево, где она отлично принялась:
— Ведь были некоторые родственные связи между этими культурами; ведь дух утончённой роскоши пришёл во Францию из Испании, после Реконкисты, где христианская вера сливалась с мавританской неистовостью и утончённостью.
Государыня Екатерина называла Москву «средоточием нескольких миров». Свободно и привольно лежала Москва в своих садах, один из которых, Васильевский — на месте Воспитательного дома, был насажен ещё великим князем Василием, отцом Ивана Грозного.
Правда, в торговых местах — Москва была кучей старых, чёрных срубов, крытых корой, тёсом и соломой, среди которых блестели жестяные главы церквей.
Улицы были завалены вместо мостовых фашинником да сланы брёвнами. Грязь была такая, что в озёрах на улицах плескались гуси да утки, а с улиц брали грязь для удобрения царских огородов. Грязь была такая, что подчас откладывались из-за неё крестные ходы — не пройдёшь…
Фонарей было мало, и по улице нужно было путешествовать либо с особым листом, либо лишь по крайней нужде, вроде родов; идущий нёс с собой фонарь, тем доказывая свою полную лояльность. Зато без фонарей шныряли шиши, разбойные люди; в ограждение от таковых улицы в десять часов вечера запирались рогатками, которые снимались за час до рассвета. Рогатки охранялись караулами из обывателей с дубинками и трещотками.
Среди этой раскинутости Москвы дворы богатых людей лежали, как усадьбы; они зеленели целыми рощами вековых дерев, блистали прудами, славились плодовыми садами, огородами, ключами, лугами даже.
На улицу от таких поместий выходили только высокие крепкие ворота среди прочного тына; восьмиконечный медный крест был на воротах, из подворотни раздавался лай злобных, лихих псов.
В эту-то обстановку и пришёл из Парижа век «красных каблуков и величавых париков». Если моды Парижа были роскошны, если кафтаны были широки, если камзолы были залиты шитьём и выходили раструбом, — то на Москве всё было ещё роскошнее, кафтаны были ещё шире, камзолы ещё трубачестее.
Там, где верхом на горбоносом кабардинце раньше пробирался в блестящей грязи боярин, бородатый, в бархатной шубе с татарской кривой саблей на золотой цепи, в сопровождении слуг, ударявших в литавры, прикреплённые у сёдел, чтобы народ у питейных, особливо, домов давал дорогу, — показались манерные каретки-эгоистки с гранёными стёклами в стиле рококо, разрисованные во вкусе Ватто, украшенные среди своих ракушек и завитков — трогательными эмблемами, вроде сердца, пронзённого стрелой.
Из этих карет выходили и часто выезжали через грязь на плечах дюжих рабов визитирующие «петиметры» и «вертопрахи» в расшитых голубых и розовых бархатах, блондах, кружевах; на шпаге был пышный бант из лент, манжеты были кружевные, шёлковые тонкие чулки оканчивались узенькими башмаками под названием «стерлядки» или «улиточки», с розовыми каблуками, с золотыми пряжками и бантами.
Только пятьдесят лет прошло со времени Петра, а нравы приняли тот характер, который мы зря называем «западным» и который по существу был падением нравов. Этот петиметр, встав в полдень, садился перед зеркалом, мазал лицо себе парижской мазью, душился и, накинув пудремант, делал причёску при помощи «уборщика и волосочёса» Бергуана, который ему завивал парик в двадцать буклей, румянил губы, наклеивал мушки, что требовало большого знания дела, чернил брови…
Был ли этот быт действительно «западным» бытом?
Если «вертопрахи» и «вертопрашки» сидели в дедовских рубленых в чащу из векового кондового леса хоромах, уставленных по старинке лавками, скамьями, тяжёлыми столами, крытыми киндячными скатертями, перед лампадами, которые озаряли строгие честные образа, — и «строили куры», то был ли это уже деловой, познавший просвещение и научную работу Запад?