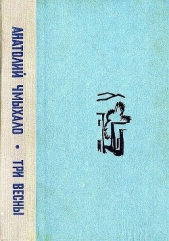Повести моей жизни. Том 2

Повести моей жизни. Том 2 читать книгу онлайн
Постановлением «Об увековечении памяти выдающегося русского ученого в области естествознания, старейшего революционера, почетного члена Академии наук СССР Н. А. Морозова» Совет Министров СССР обязал Академию наук СССР издать в 1947—1948 гг. избранные сочинения Николая Александровича Морозова.Издательство Академии наук СССР выпустило в 1947 г. в числе других сочинений Н. А. Морозова его художественные мемуары «Повести моей жизни», выдержавшие с 1906 по 1933 гг. несколько изданий. В последние годы своей жизни Н. А. Морозов подготовил новое издание «Повестей», добавив к известному тексту несколько очерков, напечатанных в разное время или написанных специально для этого издания.В связи с тем, что книга пользуется постоянным спросом, в 1961 и 1962 гг. было предпринято новое издание «Повестей» в двух томах, которое в основном повторяло трех томное издание 1947 г. Настоящее издание отпечатано с матриц 1961 г.Редакция и примечания: С. Я. ШтрайхОтветственный редактор: проф. Б. П. Козьмин.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Если ты, обманщик, сейчас же не уберешься к черту, то я тебя немедленно задушу! — и он приготовил для этого свои руки.
Понятно, что мне ничего не оставалось, как поскорее ретироваться.
Не лучшей была моя прогулка и с третьим сумасшедшим — Похитоновым, — хотя он и не считал себя русским императором. Это было уже не по распределению начальства, а по просьбе товарищей, которые заметили, что он заговаривается.
Сначала дело шло довольно хорошо, мне удавалось развлекать его. Но раз он сел на скамейку, посадил меня с собою рядом, засучил рукава и сказал:
— Гипнотизируй меня!
— Каким образом?
— Вот так: три мою руку выше локтя своей рукой!
Я начал по приказанию, но через несколько минут с ним сделалась истерика, его увели в камеру и больше к нему меня не приводили.
Конашевич и Щедрин умерли потом в психиатрической лечебнице, а Похитонов еще раньше их в Николаевском военном госпитале.
Опаснее был случай с Поливановым, который по временам впадал в мрачную меланхолию, несколько раз неудачно покушался на самоубийство и потом, уже после освобождения из Шлиссельбургской крепости по коронационному манифесту Николая II, действительно покончил самоубийством во Франции, куда он бежал из ссылки.
Однажды летом, когда я на прогулке удалился в свою одиночную загородку, чтобы заниматься, ко мне неожиданно впустили Василия Иванова, как это делали жандармы в последнее десятилетие нашего заточения, если кто-нибудь просил об этом и в загородке был только один человек. Он подошел ко мне встревоженный и сказал тихим голосом:
— С Поливановым что-то случилось. После прогулки со Стародворским он вошел ко мне в переплетную мастерскую с совершенно безумными глазами. «Теперь я знаю, как вы все ко мне относитесь, товарищи, — сказал он, — и я покажу вам себя». Он взял финский нож (служивший для резки картона по железной линейке), спрятал его под курткой и стал стучать в дверь, чтобы жандармы увели его в камеру. «Зачем вам этот нож?» — спросил я его. — «Уморю себя голодом, а если кто из вас войдет с увещаниями ко мне в камеру, убью его этим ножом». Как тут быть? Он действительно способен исполнить свое слово.
Очень обеспокоенный, я возвратился в свою камеру, приготовившись обедать, но вдруг вошел ко мне смотритель.
— Номер девятый (под каким был Поливанов) в очень нервном состоянии. Пойдите и успокойте его.
Я хорошо знал, как опасен Поливанов, когда находят на него острые припадки безумия, и он ничего тогда не помнит, но отказаться было невозможно. Я попросил смотрителя оставить меня на минутку одного, взял несколько самых толстых из своих тетрадей, обернул ими под рубашкой и курткой всю свою грудь и живот, подвязал все это, чтобы не съезжало, полотенцем, думая, что нож не пробьет такого слоя бумаги, и пошел к Поливанову.
Когда мне отворили дверь, он, насторожившись, стоял в противоположном углу. Жандарм захлопнул нас на замок и ушел, а я очутился один на запоре с товарищем в припадке мрачного сумасшествия и с финским ножом, кончик которого я тотчас же увидел спрятанным под книгой на столике.
Поливанов медленно подходил ко мне, брови были сдвинуты, глаза дико обращались то на меня, то на то место, где был спрятан нож. Впечатление было такое, как если бы это был человек загипнотизированный, действующий автоматически, как простой механизм.
— Ты зачем ко мне пришел? И ты таков же, как все остальные? Я покажу, как со мною шутить.
Я инстинктивно чувствовал, что малейшее выражение беспокойства с моей стороны кончится для меня трагически. С беззаботным видом я сел на его кровать, умышленно не глядя на место, где виднелся кончик ножа, и ответил спокойным голосом:
— Пришел, чтобы попросить тебя прочесть мое новое стихотворение и указать на недостатки.
Я подал ему нарочно захваченную тетрадку со своими стихами (он тоже писал по временам стихи и давал мне на просмотр).
— Неправда, — ответил он, — ты пришел успокаивать меня. Но ты знаешь, что я должен за это сделать?
— Ничего не слыхал.
Видя, что он не берет стихов, я сам начал читать их.
Он забегал из угла в угол мимо стола, все время поглядывая то на меня, то на место, где лежал нож. И вот через некоторое время я увидел, что дыхание его стало глубже и ровнее, брови понемногу раздвинулись и мрачные черные глаза потеряли бессмысленный вид.
Увидев, что припадок проходит, я спросил его наконец:
— Что с тобою?
— Если буду когда-нибудь на свободе, — ответил он мне загадочно, — прежде всего вызову Стародворского на дуэль.
И он больше никогда не здоровался с ним.
В форточку нашей двери жандармы протянули руку с обедом, я взял и для себя, и для него и с большим трудом уговорил его есть. Тут я пришел невольно еще к одной психической особенности нашей шлиссельбургской жизни, имеющей в основе романтическую подкладку.
Каждый сидевший в одиночном заключении, у которого была соседка, поймет меня без слов. После первых же дней перестукиванья с нею он начинает воображать ее чудом женской красоты и совершенства и влюбляется в нее заочно. Но само собой понятно, что тот образ, который рисуется в его воображении, совсем не похож на реальный, и потому не раз случалось, что при первом же свидании с нею он совсем становился в тупик: не может быть, что это та самая, с которой он перестукивался ежедневно несколько месяцев.
С Верой и Людмилой не случилось этого.
К тому первому периоду, к которому относится рассказанный мною случай с Поливановым, их удавалось уже видеть на прогулке из форточек окна. Но тем не менее каждый был влюблен то в ту, то в другую, хотел сидеть в камере около нее, ревновал других, которые были ближе, и особенно если кто посылал той или другой посвященные ей стихи.
При общем нервном состоянии, причиной которого были пожизненность заключения и только что очерченные мною психопатические постоянные выходки помешанных, сидевших между нами, это приводило нередко к сумасбродным предложениям, которым я всегда противодействовал. Так, раз Попов при каком-то из своих сердечных припадков по поводу Веры или Людмилы поднял агитацию за то, чтобы мы все, вместо того чтобы умирать здесь и сходить с ума безмолвно и поодиночке, умерли бы все разом с эффектом, который может отразиться на самих наших врагах.
— Разобьем все разом окна в наших камерах и будем кричать: «Караул! Нас живыми замуровали в гробы!» Будем кричать и бить кулаками в двери до тех пор, пока часовые нас всех не расстреляют или не придушит начальство.
Поливанову эта идея тоже очень понравилась, и я почувствовал, что если все из нас и не согласятся, то часть действительно способна на такое сумасбродство. Попов начал обвинять несогласных в трусости, а мне захотелось как-нибудь снять с себя и их этот неприятный попрек, и я простучал ему на другой день в стену (мы сидели иногда через камеру) стихотворение, будто бы найденное мною в книге, но на самом деле написанное в тот же вечер.
Попов не поверил, что это было найдено мною в книге, и долго сердился на меня, но все же обидная постановка вопроса была снята, все уладилось, и мое стихотворение осталось единственным памятником его предложения.
Вторая наша тревога на романтической подкладке была с Лопатиным.
Очень талантливый как рассказчик и полемист, он также мог писать и недурные стихи и, пользуясь этим, чуть не каждый день посылал через промежуточных товарищей стуком мадригалы и Вере, и Людмиле, сидевшим далеко от него, что стало вызывать у передатчиков ревность и понятное расстройство нервов. А он не обращал на это никакого внимания. Наконец Вере стало неловко, и она попросила его больше не присылать ей стихов. Обиженный, он перестал совсем писать стихи, и нас всех это рассмешило.