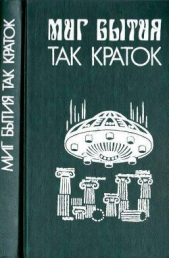Книга бытия (с иллюстрациями)

Книга бытия (с иллюстрациями) читать книгу онлайн
Двухтомный роман-воспоминание Сергея Снегова «Книга бытия», в котором автор не только воссоздаёт основные события своей жизни (вплоть до ареста в 1936 году), но и размышляет об эпохе, обобщая примечательные факты как своей жизни, так и жизни людей, которых он знал.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я тоже засмеялся. Впрочем, веселье наше длилось недолго.
— Теперь папа подозревает, что у меня любовник, — сказала Фира. — И не успокоится, пока его не обнаружит.
— Он обнаружит мужа!
— Это еще хуже. Любовники иногда случаются — многие и разные, он это понимает. А муж — на всю жизнь, папа примет только того, кого сам подберет.
— Придется ему смириться со мной.
— Он с тобой не смирится. Не надо строить иллюзий, Сережа.
— Не надо строить иллюзий, что с таким положением смирюсь я! — ответил я резко. — Я больше не полезу прятаться за пианино — я тебе не нашкодивший кот!
— Больше такого не повторится, — сказала она кротко.
— Оно может повториться в любой день. Я не прошу — требую: прекрати этот глупый камуфляж! Твой отец должен узнать все.
— Ты забываешь, что мы зависим от него. Мама больна, она не может работать.
— Отцовская любовь ценой в пятьдесят рублей в месяц? — сказал я презрительно. — Ты хочешь, чтобы я уважал такого человека? О Любови Израилевне я не говорю: их отношения — их личное дело.
— Можешь не уважать, только не мешай нам жить, как мы привыкли.
— Вы-то, наверное, привыкли — но я привыкать не собираюсь!
Она долго думала, прежде чем ответить.
— Сережа, ты хочешь со мной поссориться?
— По-моему, мы уже поссорились, Фира. Боюсь, тебе придется выбирать: отец — или я.
Она сказала очень устало:
— Я думала об этом сотни раз. Здесь нет выбора: ты или он? Ни для меня, ни для мамы (я с ней уже говорила). Только ты, один ты! И ты напрасно спрашиваешь меня об этом — мой ответ тебе известен. Но если с моей мамой случится что-нибудь плохое, это останется на нашей совести.
Я ушел в институт раньше Фиры — она захотела поговорить с Любовью Израилевной. После лекции меня вызвали в канцелярию. Улыбающаяся секретарша Фарбера поздравила меня.
— Сообщаю вам постановление ректората. Вам назначена стипендия в размере…
Она говорила быстро, от волнения я плохо слышал. Я разобрал не все, но слова «…двадцать рублей» донеслись четко. Я ждал сорока или пятидесяти — так получали остальные студенты. Двадцатка не решала наших проблем, она казалась издевательством — особенно после того, что я наговорил Фире. Мне стало очень обидно — и очень горько.
— Всем дают по сорок или пятьдесят — почему мне только двадцать? Разве я хуже остальных?
Секретарша засмеялась.
— Вы плохо расслышали. У вас персональная, а не общая стипендия. И размер ее — 120 рублей в месяц. Вот, прочтите постановление ректората.
Она протянула мне бумагу. В ней действительно значилась эта абсолютно непредвиденная цифра — 120.
В тот день домой я бежал, а не шел.
Фира была одна. У нее опухли и покраснели глаза, она с трудом поднялась с дивана. Я понял, что разговор с матерью был очень тяжелым. Но теперь было уже неважно, что они решили!
Фира опередила меня.
— Сережа, у меня две новости. Я нашла машинистку, которая сможет перепечатать твои «Проблемы диалектики». Нужно только раздобыть деньги.
— Отлично. Вторая новость?
— Я говорила с мамой. Она долго плакала, но я ее уговорила. Когда папа придет, мы расскажем ему о моем браке. Мама, правда, считает, что он проклянет меня и лишит помощи.
— Тогда слушай меня, Фира. Сегодня мне назначили стипендию. Она перекроет то, что вы получали от отца.
— Неужели больше пятидесяти? Неужели больше?
— Сто двадцать! — крикнул я. — Сто двадцать рублей, Фира!
Она обняла меня, прижалась лицом к моей груди и облегченно заплакала.
— Расскажи все подробно, — потребовала она, успокоившись.
И я рассказал, как меня вызвали в канцелярию, как я не понял, сколько буду получать, и расстроился, как радовалась за меня секретарша…
А потом замолчал. Я вспомнил, как обвинял председателя профкома в том, что он хвастается чужими заслугами. Моя персональная стипендия тоже была чужой заслугой. Сам я мог претендовать только на 40–50 рублей, как и остальные студенты. Остальное было оплатой труда человека, от фамилии которого я отказался, с которым не захотел общаться, который стал для меня чуть ли не врагом. Я не просто получал деньги за чужую работу — моя «персоналка» была аморальна. Она была недопустима.
Выводы из этой мысли предстояло продумать впоследствии.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
Зрелость

Одесса в 1930-е гг.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Одесса
1
Подошла пора строить семейное гнездо — и оказалось, что я мало приспособлен к этому неизбежному занятию. Я потратил слишком много сил — и даже ярости, — отстаивая свою самостоятельность перед властной и крутой мамой, чтобы теперь, в той семье, которую выстраивал сам, суметь отказаться от завоеванного.
Но сейчас со мной боролись уважением и любовью.
Сначала мне казалось, что главная помеха нашей жизни — Яков Савельевич. Слишком уж много мне наговорили о его верности еврейским традициям и неприятии смешанных браков, да и контрольные его визиты (вечерние и утренние) особой радости не приносили. Позор, который свалился на меня, когда я, голый, прятался за пианино, жег душу. Я, не имея фактически ни гроша, повел себя по-диктаторски, хамски и дико, потребовав, чтобы моя жена и ее мать отказались от помощи отца. Я использовал свое право главы семьи — хотя вряд ли имел особые основания на него претендовать. Собственно, база у моих претензий была одна — Фирина любовь, и я бесцеремонно ее использовал.
— Я уеду в Ленинград к Эммочке, а ты живи как сможешь, — сдалась на требование дочери плачущая Любовь Израилевна.
Реакция Якова Савельевича на известие о том, что младшая его дочь выбрала себе мужа, не спросившись у отца и матери, была очень резкой — но все же не такой, как опасались.
Он, разумеется, обрушился на своих женщин с упреками и бранью. Конечно, заочно проклял меня — злого врага, разрушившего вековечные порядки в добропорядочной семье. Естественно, заявил, что видеть меня не хочет. И напоследок пригрозил, что больше никогда его нога не переступит порога квартиры, в которой совершилось это возмутительное преступление, — и несколько месяцев строго выполнял этот наложенный на себя запрет.
Однако гнев не помешал ему вынуть из кармана алименты и аккуратно положить (не бросить!) на стол обычные пятьдесят рублей. Правда, он поклялся, что теперь будет отсылать их по почте. Но время шло, обет не посещать изменническую квартиру был скорректирован: Яков Савельевич не появлялся у жены и дочери только тогда, когда дома был я. Он увиливал от встречи около года — а потом все-таки захотел посмотреть на своего зятя.
— В твоем отце борются национальная ограниченность и общечеловеческое мужское начало, — сказал я Фире. — С первой все ясно. А его мужскую суть вы с мамой недооценили. Настоящий мужчина не сможет пренебречь помощью своей женщине (пусть даже оставленной), тем более детям — уже из одного чувства собственного мужского превосходства.
Фира, кстати, всегда сомневалась в существовании подобного, гендерно обусловленного, перевеса — что ж, ее отец сумел доказать, что это не пустые слова. Формально от его помощи отказались — но он продолжал приносить деньги в свою бывшую семью и обижался, если их не брали.
После знакомства мы с ним общались вполне мирно — я не видел с его стороны никаких националистических выбрыков. Возможно, его смягчило мое быстрое восхождение по научной лестнице, а может быть, причина была в том, что я, космополит генетический и идейный, даже внешне мало походил на классического гоя, «русско-кацапа» (недаром впоследствии коминтерновец Вайсфельд искренне предположил во мне некую «прожидь»).
Во время войны Яков Савельевич, еще в цвете сил, на пароходе «Ленин» эвакуировался со второй женой из Москвы в Новороссийск. «Ленин» был потоплен на переходе.