Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург
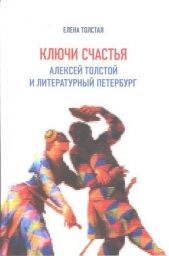
Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург читать книгу онлайн
Настоящее исследование Е. Толстой «Ключи счастья» посвящено малоизвестному раннему периоду творческой биографии Алексея Николаевича Толстого, оказавшему глубокое влияние на все его последующее творчество. Это годы, проведенные в Париже и Петербурге, в общении с Гумилевым, Волошиным, Кузминым, это участие в театральных экспериментах Мейерхольда, в журнале «Аполлон», в работе артистического кабаре «Бродячая собака». В книге также рассматриваются сюжеты и ситуации, связанные с женой Толстого в 1907–1914 годах — художницей-авангардисткой Софьей Дымшиц. Автор вводит в научный обиход целый ряд неизвестных рукописных материалов и записей устных бесед.
Елена Д. Толстая — профессор Иерусалимского университета, автор монографий о Чехове «Поэтика раздражения» (1994, 2002) и Алексее Толстом — «Деготь или мед: Алексей Толстой как неизвестный писатель. 1917–1923» (2006), а также сборника «Мирпослеконца. Работы о русской литературе XX века», включающего цикл ее статей об Андрее Платонове.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Толстой во время войны получает известность как автор книги военных очерков; его комедии идут в столичных театрах. Летом 1918 года, во время террора, он с семьей уезжает из Москвы на юг, в Одессу, перед самым отъездом передав в театр б. Корша только что законченную пьесу «Смерть Дантона», переделку одноименной романтической драмы Георга Бюхнера (Толстая 2006: 555–590).
Толстой сгустил краски, сильно сократив бюхнеровскую пьесу, ввел дополнительные сюжетные линии и придал ей злободневное звучание — в частности, изобразил фигуру, которой нет у Бюхнера, голодающую аристократку, Женщину в шали. Живет Женщина в отеле, как подобает небогатым аристократам; зовут ее Шарлоттой, как Шарлотту Корде. Она сталкивается с Дантоном, и тот проникается сочувствием к хрупкой, обреченной красоте Женщины и содрогается, узнав, что он прямой виновник ее несчастий — гибели ее мужа-поэта.
И в этой сцене, легким безымянным касанием, и далее, в финальном эпизоде в тюрьме Консьержери, где имя поэта, казненного революционерами, звучит вслух из-за стенки, Толстой затрагивает тему Андре Шенье, для русской литературы классическую и, казалось бы, давно отзвучавшую. Летом 1918 года обратить к ней мысли Толстого могла только казнь юного поэта-террориста Леонида Каннегиссера.
В 1918 году в намерения Толстого вряд ли входило нацелить свою Женщину в шали на образ Ахматовой. До «убийства мужа-поэта» в ее случае оставалось еще три года. Однако казнь Гумилева непоправимо бросила «тень из будущего», по ее собственному выражению, на текст 1918 года, «проявляя» в нем задним числом черты ахматовской биографии (причем стилизованной, мифологизированной: муж ее ко времени своей гибели был с ней разведен и женат на другой). Надо признать, что Толстой напророчил — как он напророчил мировую бойню в своей «Гекате» и траву на петроградских улицах в «Абозове»:
Женщина в шали. <…> Его убили напрасно. Он был поэт. Он мог быть гордостью Франции. Я сама, вот этими руками вытащила его тело из целой горы изрубленных трупов. А он мог быть гордостью Франции.
Дантон (хрипло). Когда это было?
Женщина. Моего мужа убили в сентябре, в сентябрьскую резню. Убийцы будут прокляты, я знаю. Эта кровь их задушит <…> (Там же: 574–575).
В «Хождении по мукам» А. Варламов увидел кое-какие ахматовские черты в облике актрисы Чародеевой, и, кажется, ошибочно: Чародеева ориентирована на актрису театра Комиссаржевской Нину Волохову, на что прозрачно указывает ее фамилия: чародей = волхв.
Поклонение
В 1922 году Толстой, возглавивший литературное сменовеховство в Берлине, открыл первый номер своего литературного приложения к газете «Накануне» двумя до тех пор не печатавшимися в России стихотворениями Ахматовой: «Земной отрадой сердца не томи» и «Как мог ты, сильный и свободный». Ахматова протестовала (Флейшман 2003: 43). Можно видеть косвенное подтверждение его тогдашнего интереса к ней в том месте романа Набокова «Подвиг», где писатель Бубнов, в котором иронически и очень точно запечатлен Толстой берлинского периода, цитирует Ахматову: «А каблучки у нее стоптаны, стоптаны!» Ср.: «В этом сером, будничном платье / На стоптанных каблуках…» (Ахматова 1967-1: 92–93). (Кстати, эти «стоптанные каблуки» подчеркивает Корней Чуковский в своей статье 1921 года «Ахматова и Маяковский» в качестве типичной приметы нового образа поэтессы, в коем педалированы бедность и сирость.)
По возвращении Толстой, как это описывается у Ю. Молока, украшает двойным портретом Ахматовой и Судейкиной обложку первого советского издания своего эмигрантского романа «Хождение по мукам», соответственным образом приспособленного к новым нуждам. На книге стоит гриф «Издание автора», вышла она в Ленинграде в 1925 году, когда еще существовали частные издатели:
И все же мы не ответили, кто автор замысла этой обложки. Вероятно, оба. И Белкин, и Толстой. Не только потому, что Толстой был очень авторитарен <…> Тем более в «издании автора» он мог диктовать свои вкусы и пристрастия. Вернее всего, идея обложки к «Хождению по мукам» родилась как забавная шутка, графическая вольность, которую могли позволить себе старые петербургские приятели (Молок 1994: 132).
Налицо более чем почтительность. Наверняка он разделяет общее восторженное отношение к Ахматовой как к мученице и плакальщице за всех. Но в этом жесте проглядывает и некая бесцеремонность. Толстой как бы силком втаскивает себя — по сути, перебежчика, со своим перелицованным романом — в тот контекст стоического негромкого сопротивления, который символизирует в тот момент фигура Ахматовой.
Возможно, поэтому Ахматова «в своей иконографии не числила ту обложку, на которую она попала вместе с Ольгой Судейкиной, наверняка против их воли и желания» (Молок 1994: Там же и сл.). Роман же Толстого она, по ее рассказам начала 60-х, «отрицала, не читая. Однажды собралась с силами и прочла и теперь у нее есть доказательства ничтожества этой книги. Образ Бессонова — недопустимое оскорбление Блока» (Будыко 1990: 483). Еще ранее она говорила Вяч. Вс. Иванову, что «умеет показать по его роману (“Сестры”), как он совсем не знал Петербурга» (Иванов Вяч. Вс. 1991: 476).
Но так ей виделась ситуация из 60-х годов. Судя по записям середины 20-х, тогдашнее ахматовское отношение к Толстому в это время было иным — гораздо более заинтересованным и мягким. Тому много причин. Ей, автору стихотворения «Мне голос был. Он звал утешно…», неуместно было бы осуждать возвращение на родину как приспособленчество. И катастрофическая судьба пошедших за Толстым сменовеховцев тогда еще не свершилась — его можно было обвинять пока только в расколе эмиграции, отношение к которой даже среди оппозиционной интеллигенции в России вовсе не было однозначно. Он еще не скомпрометировал свой талант откровенно угодническими сочинениями. В первые годы в Петрограде Толстой встречается с Ахматовой в писательских компаниях наряду с Фединым, Чуковским, Замятиным. Биографу Гумилева П. Лукницкому Толстой отдает хранящиеся у него автографы поэта. Варламов считает, что Ахматова в это время благоволила Толстому как участнику и свидетелю гумилевской дуэли, знавшему все обстоятельства и потенциально способному противостоять волошинской версии, чернившей Гумилева (Варламов: 348 и прим. 15).
В ахматовских высказываниях того времени звучит сочувствие к Толстому, проецирующееся и назад, на их бывшее приятельство. Говоря о Вячеславе Иванове, влияние которого на молодых поэтов ей представлялось пагубным, она сказала Лукницкому:
Но Алексей Толстой читал, неплохие стихи были, у него тогда хорошие стихи были… В. Иванов загубил его. Он под это понятие «тайнописи звуков» не подходил. А Скалдина Вяч. Иванов расхваливал, Верховский подходил под эту тайнопись! (Лукницкий 1991-1: 14 [347]).
Толстой для нее попрежнему, как и в 1910-х, «Алешка», легкомысленный гуляка и пьяница: «Говорили о А. Толстом, о том, что он много авторских денег с „Заговора Императрицы“ получает, АА заметила, что это нехорошо, потому что „Алешка их пропивать будет“»… (25.05.1925) (Там же: 63). Противопоставляя «молодую редакцию» «Аполлона» «Цеху поэтов», Ахматова относит Толстого к первой, вовсе не упоминая о его первоначальном участии в «Цехе» и подчеркивая разницу в жизненном стиле этих двух групп, ср.:
Из разговоров о Николае Степановиче записываю следующие слова АА:
Цех собой знаменовал распадение этой группы (Кузмина, Зноско и т. д.). Они постепенно стали реже видеться, Зноско перестал быть секретарем «Аполлона», Потемкин в «Сатирикон» ушел, Толстой в 12 году, кажется, переехал в Москву жить совсем… И тут уже совсем другая ориентация… Эта компания была как бы вокруг Вячеслава Иванова, а новая — была враждебной «башне». (Вячеслав же уехал в 13 году в Москву жить. Пока он был здесь, были натянутые отношения.) Здесь новая группировка образовалась: Лозинский, Мандельштам, Городецкий, Нарбут, Зенкевич и т. д. Здесь уже меньше было ресторанов, таких — Альбертов, больше заседаний Цеха, больше… [обрыв] (Лукницкий 1991-1: 129).


























