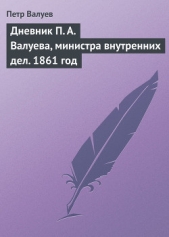Дневник. 1918-1924

Дневник. 1918-1924 читать книгу онлайн
Дневники Александра Николаевича Бенуа (1870–1960), охватывающие 1918–1924 годы, никогда прежде не печатались. Знаменитый и модный живописец, авторитетный критик и историк искусств, уважаемый общественный деятель — он в эти трудные годы был художником и постановщиком в Мариинском, Александринском и Большом драматических театрах, и иллюстратором книг, и заведующим Картинной галереей Эрмитажа. Свои подробные ежедневные записи Александр Бенуа называл «протоколом текущего безумия в атмосфере чада, лжи и чепухи».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Непосредственно за ним выступил моргач [23]Пунин, с остервенением протрезвонивший свою рацею, исполненную, как всегда, сумбурной парадоксальности и поверхностной игры в научность. И его я никак не могу понять: что ему нужно? Несомненно одно: по существу он и сам не знает, что ему нужно: если только не считать за «нужду» потребность пустого тщеславия, вечно гарцевать, бросая пыль в глаза. Изумляется наивная душа щегольством своих измышлений, выкроенных все из «самых последних слов» (сейчас он цитирует Шпенглера и Эйнштейна).
Если Татлин великолепный ярмарочный шарлатан, то Пунин довольно низкопробный салонный софист и педант. Но, Боже, что за завидная и у этого человека способность болтать языком, на лету схватывая иногда очень замысловатые конструкции оппонентов, и сейчас же заготавливать им ответы, если и вовсе неубедительные, то все же вполне эффектные и подносимые с видом полной уверенности в том, что противник должен быть уничтожен. О чем он болтал, я никак сейчас не вспомню. Но были в этой болтовне и какие-то совершенно наглые обвинения по адресу музейных деятелей — в недостаточной подготовленности. В своей же положительной части речь его сводилась к какому-то проекту, в котором он рекомендовал выявить в экспозиции развитие форм (например, идею круга, начиная от камня, катящегося с горы, и кончая колесом лимузина), сопоставлять разные способы техники, сопоставлять картины, раз навсегда отказываясь от отсталого хронологического принципа по примеру сопоставления Уолля и т. д.
Говорил после него дурак Денисов, потом великолепно несколько раз выступал наш эрмитажный чемпион Орбели в образцовых академических формах, полных едкости, но непогрешимой корректности, но все это кончилось очень неожиданно скандалом, в котором вскрылись внутренние нелады левого лагеря. А именно: Филонов в своем последнем слове абсолютно отрекся от Пунина и даже назвал его «Распутиным наших дней», морочащим народ так же, как тот морочил царей и аристократов. Татлин в кулуарах грозил Нерадовскому, что он с «этим господинчиком, который с бумажкой», намекая на почему-то его ужасно обозлившего Сычева, и уверял, что теперь он только учится и пробует, а вот в будущем году он покажет себя, и тогда «всем вам не поздоровится».
В общем, я должен сказать, что прошедшее без скуки мне было интересно, и кроме описанных монстров было немало над чем производить наблюдение, начиная от истинно почтенного старичка Карпинского, являющегося всегда первым и досиживающего на одном месте с видом глубокого внимания до конца, кончая юрким, элегантным, несмотря на большевистский маскарад, без умолку острящим на превосходном французском языке камергером Моласом, чувствующим себя как рыба в воде.
Глядя на него, вспоминаю свои сетования по адресу саботировавшего в 1918 году чиновничества. Ведь всюду были такие Моласы, и были в изобилии — это была краса и гордость нашей бюрократии. И вот, если бы эти ловкачи не оставили своих постов, а остались бы на них, то через год или два превратились грозной ятамановщиной в то укрощенное, смирное, почти безобидное состояние, в которое впал и наш генерал Григорий Степанович. Но, увы, Господь отнял у нашей буржуазии разум уже тогда, когда она поклялась воевать до победного конца, отказываться априори и от всякого здравого смысла в каком-то повальном дилетантизме, поверив в благородство своей «верной союзникам» политики. Все же остальное было только логическое следствие этого «безумия».
Приходил Крамаренко с привлекательной картиной давидовского круга (очень смытая), изображающей в лицах мотив: «Что любовь улетает, где появляется нужда».
Божественные эффекты мощных облаков при ярком солнце. Нева бесподобно прекрасная. Среди дня — крупный дождь. Все время ветер. До сих пор не приходится жалеть, что мы не на даче. Татан два раза гулял, требуя, чтоб его покатали на автомобиле. Я с Акицей еще говорил о своем решении ехать.
Сегодня я выступил со своим докладом о дворцах-музеях, но выступал последним в 11 часов вечера и тогда уже, когда настолько стемнело, что пришлось зажечь свет в люстрах, и это вышло очень парадно. Прочел я громко, внятно, друзья говорят, что во всех отношениях хорошо. Напротив, Тройницкий свой довольно толковый (но несколько наивный, в особенности в своей исторической части) доклад промямлил так, что его с трудом можно было слушать, и Стип, специально для него сидевший (вместе с Акицей и Кокой) с 4-х часов до 10, даже заснул. Впрочем, до наших докладов публику уморил геолог Степанов, часа полтора говоривший о естественно-исторических музеях. Его я просто не слушал, а болтал в это время в «кулуарах» (на самом деле, в гостиной с алой обивкой и с двумя Айвазовскими) с друзьями, стараясь между прочим помирить Жарновского с Зубовым.
Наши доклады не вызвали той бури, которую нам пророчили. «Русские музейщики», к удивлению своему, ничего не нашли в Тройницком непосредственно им угрожающего и припрятали все, что было ими во главе с Руденко и с Богаевским заготовлено, Сычев и вовсе растаял и даже не поддался прямой провокации Зубова, уверявшего аудиторию, что Эрмитаж в своем хищничестве и империализме готовится поглотить и Русский музей. В сущности, вся оппозиция и свелась только к Зубову, после этого Макаров при всей публике выдернул из-под его ног почву и заявил, что Зубов не уполномочен выступать от имени дворцов-музеев. У Телепоровского не хватило куражу самолично поддержать своего патрона. После этого Валечка Зубов сидел красный как рак, растопырив свои безумные глаза, и, видимо, сбитый совершенно с толку таким позорным финалом (ибо это, надо надеяться, финал) своей интриги, целью которой было воссесть самому на трон Тройницкого и главным средством которой было осуждение пресловутого перевода Павловских статуй. Он и на сей раз попробовал вот эту заваруху снова заварить при всем честном народе. Но хотя его и поддерживали прибывшие из Москвы Машковцев (сидевший вчера все время рядом со мной и беседовавший в самых дружественных тонах), слюнтяй Романов (в то же время ужасно трусливый, как бы ему не навлечь нашей немилости) и идиот Борис П.Брюллов, однако аудитория отнеслась к этому вызову (а у Зубова это вышло именно вызовом, и С.Ф.Ольденбургу пришлось его призвать к порядку) очень равнодушно, и в конце концов тезисы Тройницкого прошли полностью (кроме его 6-го пункта, который он из-за каких-то тактических соображений или из каприза снял), а мои «предложения» (они же тезисы) были приняты с одной лишь поправкой (тоже тактического порядка) Ерыкалова, вред от которой мне, вероятно, удастся парализовать в «окончательной редакции».
Бедные мои Акица и Кока высидели (не желая уйти до моего выступления) целых восемь часов, и у Акицы ужасно разболелась голова.
Огромное удовольствие доставила Акице чертовски остроумная речь Орбели (для защиты Тройницкого он прибегнул к сугубо виртуозному приему: он как бы возражал ему, и даже с тоном некоторого негодования), посмеялись во время выступления «сына крестьян, от сохи пришедшего» Петрова, обозвавшего Пунина и Филонова аристократами, насладились они и «пророческой речью» последнего (на тему об эволюции, причем опять был притянут Эйнштейн), позлились, пока болтал Пунин, договорившийся до отрицания не только истории искусства, но и истории, и, наконец, самого времени и самого пространства, послушали настоящую скуку Степанова и более бодрый, быстрый, но удивительно куцый доклад дотошного гиганта глухаря Шокальского, разбившего себе об угол кафедры глаз и все же безостановочно продолжавшего говорить, «на ходу» прикладывая примочки к ране, поразились изумительному прогрессу Ятманова, который приобрел «подлинную» сановитость и стал говорить вещи почти связные и приемлемые, выражая при этом свое почитание Эрмитажа (двойная работа Ольденбурга, который в нем прямо души не чает, и глубоко его презирающего, но неустанно обрабатывающего Моласа).
Возвратились мы втроем в чудную ароматическую, но очень светлую ночь в компании с четой Мацулевич и долговязой, черной, тощей Крыжановской (вот тип!). Что выйдет из всего этого, трудно сказать. Денег же все равно не дадут. Но при случае ссылаться на удобное для нас «постановление конференции» (в сущности, пассивно принятые индифферентной толпой наши же постановления) можно будет надеяться — и это будет иметь свое действие.