Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона
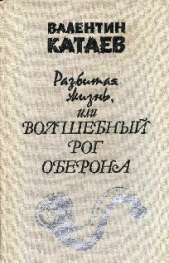
Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона читать книгу онлайн
„Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона"— книга, написанная на автобиографическом материале. Состоящая из отдельных фрагментов-воспоминаний, она объединена единым художественным замыслом и воссоздает гармонически целостную картину жизни детских лет писателя. И в этом произведении В. Катаева проявились такие особенности его стиля, как гротескность, лиризм, остроумие, наблюдательность, конкретно-чувственное восприятие мира.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Слушаюсь, ваше императорское величество, государыня-матушка, покорнейше вас благодарю за царскую милость».
Так было напечатано в особом листке объяснений.
А вокруг стояли декорации, изображавшие колонны дворца, полосатую будку часового и кулисы в виде выглядывающих одна из-за другой картонных полос с яркими изображениями царскосельских деревьев, а в глубине сцены — неподвижная картина царскосельских прудов с белоснежными лебедями.
Расставив все это по плану, приложенному к театру, и поставив за кулисами зажженные елочные свечи, я поднимал картонный занавес, искусно разрисованный парчовыми складками, и любовался зрелищем театра, причем особенно волновала меня маленькая раковина суфлерской будки.
В сущности это была всего лишь немая неподвижная картина, лишенная человеческих голосов, движения и музыки, но даже ее неподвижность и тишина и косое, теплое освещение придавали ему характер волнующего зрелища, как бы уходящего в перспективу кулис и верхних софитов.
Полюбовавшись сценой, надо было опустить нарядный занавес с парчовыми складками, кистями и желтой лирой посередине и начать устанавливать следующие сцены, из которых самая красивая и волнующая была переход Суворова с его чудо-богатырями через Чертов мост: снежные вершины Альп, пропасть с дымящимся на дне синим туманом, падающая со скалы вниз медная пушка и маленький старичок — Суворов, с серым хохолком над узким костлявым лбом, на лошади, с обнаженной шпагой в руке, кричащий:
«Вперед, мои чудо-богатыри!» — что было также напечатано в объяснении к этой сцене.
Сперва в театре меня увлекала только техника зрелища, устройство сцены, механизм подъема занавеса, расстановка декораций и фигурок действующих лиц, вырезанных из картона, искусственное боковое освещение, суживающаяся перспектива кулис.
Я наслаждался живописной стороной спектакля: сводчатыми потолками каких-то боярских пиров с братинами, дубовыми столами, жареными лебедями на блюдах, кокошниками и уборами древнерусских красавиц, боярами в высоких собольих шапках, в аксамитовых кафтанах, ферязях, витязями в стальных кольчугах и шлемах, белобородыми кудесниками и гуслярами, монахами и разбойниками с кистенями в руках, посреди дремучего леса, в чаще искусно вырезанного из картона ельника…
Меня до слез волновал снег, опускающийся густой сетью на мужественного старика — Ивана Сусанина, сидящего на пне, в то время как польские сивоусые гусары стояли вокруг него с поднятыми кривыми саблями.
В восторг приводила меня громадная голова из «Руслана и Людмилы», ее раздутые ноздри, откуда вылетали тучи сов, и — конечно! — летящий по воздуху карлик Черномор с развевающейся длиннейшей бородою, держа в объятиях несказанно прекрасную Людмилу в русском сарафане и кокошнике, как у кормилицы, с белым, обморочным лицом и закрытыми глазами…
Впоследствии я видел то же самое на настоящей сцене, когда нас водили на праздничные утренники в городской театр, где кроме магии декораций и скрытого освещения была еще магия оркестра, музыки, пения, передвижения по громадной сцене, откуда в жарко натопленный зрительный зал дуло со сцены холодным ветром, богато одетых, загримированных до неузнаваемости людей — артистов, которые при свете рампы казались мне удивительно дисциплинированными и движущимися как бы по какому-то расписанию вроде расписания поездов.
Дома я пытался своими средствами на самодельной игрушечной сцене устраивать подобия этих спектаклей с красными пожарами и синими лунными ночами (как в «Аиде»), всегда напоминавшими мне лунные ночи на Ланжероне, где Черное море из края в край блестело как бы светящейся серебряной бумагой — ни дать ни взять Нил, только не хватало черных силуэтов пирамид и пальм.
Помню, как трудно было сделать искусственный лунный свет.
Для этого надо было купить двухкопеечную шоколадку, завернутую в прозрачную синюю желатиновую бумажку, и через нее пропустить луч свечи на мои самодельные декорации, казавшиеся мне прекрасными. Тогда все на сцене становилось лунно-синим. Для пожара требовалась красная желатиновая бумажка, и я опять бежал в бакалейную лавочку за двухкопеечной шоколадкой в красном желатиновом пакетике. И сцена делалась тревожно-багровой. Знойный день в африканской пустыне достигался с помощью желтой желатиновой бумажки. Лавочник удивлялся, как много я съедаю шоколада. Он не знал, что шоколадки я выбрасываю в помойное ведро, для того чтобы поскорее завладеть волшебной желатиновой бумажкой, необходимой мне для сценических эффектов.
…До сих пор, гуляя зимой в яркую лунную ночь по Переделкину и любуясь снежным полем и блеском золотых луковичек церкви времен Иоанна Грозного, мне кажется, что я смотрю на этот неописуемо прекрасный синий пейзаж сквозь желатиновую бумажку моего детства.
Потом наступило время домашних спектаклей.
Главная трудность их заключалась в необходимости достать занавес. Какой же театр без занавеса? Занавес представлялся мне главным элементом театра. Тайком я вытаскивал из тетиного комода новенькие простыни тончайшего голландского полотна с метками гладью Е. Б. (Елизавета Бачей) и, не имея терпения пришить к ним кольца, грубо вырезывал в них ножницами круглые дырки, для того чтобы нанизать их на проволоку, натянутую между двух стен, куда были безжалостно вколочены первые попавшиеся под руку кривые костыли.
Мы гримировались чем попало, приклеивали клеем «синдетикон» бог знает из чего сделанные бороды и усы, румянили акварельными красками щеки, и, надев папин новый сюртук с шелковыми лацканами, я выбегал на сцену, произнося ужасной скороговоркой монолог Чацкого: «Не образумлюсь, виноват, и слушаю — не понимаю, как будто все еще мне объяснить хотят»… и так далее. В то время как тетя рыдала над изгаженными простынями, пытаясь выдрать из попорченных стен на совесть вколоченные костыли, и тушила керосиновые лампы, расставленные прямо на полу в виде рампы вдоль сцены, я, ничего не видя и не слыша, выкрикивал:
«Карету мне, карету!» — бесчисленное число раз повторял я, заливаясь злыми слезами.
Домашний скандал, которым всегда сопровождались любительские спектакли, был тоже как бы составной частью театра, драматического искусства.
Но лишь однажды в жизни я почувствовал всю страшную силу настоящего театра. Это случилось, когда папа повел меня на «Бесприданницу», роль которой играла приехавшая на гастроли великая Комиссаржевская. Я следил за переживаниями бедной, хорошей, гордой девушки, превратившейся благодаря среде, в которой она принуждена была жить, в вещь, почти в неодушевленный предмет, брошенной любимым человеком, оказавшимся негодяем. В белом кружевном платье, несколько сухопарая, измученная, с гитарой в слабых руках, певшая в отчаянии каким-то надтреснутым голосом:
«Но не любил он, нет, не любил он…»
она сжигала мне, тринадцатилетнему гимназисту, душу. Я не имел сил выйти с папой в антракте в фойе и сидел неподвижно в кресле, вцепившись руками в бархатные поручни. Я думаю, что у меня тогда были пепельные губы, круги под безумными глазами, дрожали ледяные пальцы… А когда в последнем акте обманутый Карандышев — жалкий и вместе с тем страшный своей крахмальной манишкой на впалой груди, сутулой фигурой и чиновничьей фуражкой — вдруг выбежал, спотыкаясь, из-за кулис и выстрелил из пистолета в Комиссаржевскую, в ее спину с выдающимися лопатками, то она не упала, как можно было предположить, а пошатываясь, но довольно твердо прошла по авансцене, а затем, схватившись за железный садовый стул, оперлась на круглый железный садовый стол и таким образом, стоя лицом к публике, умирала на фоне восхитительного заволжского пейзажа с грустными неподвижными облаками и туманно-лиловыми далями и, умирая, зачем-то сняла с головы свою трогательную соломенную шляпку с палевыми лентами, дрожащими в ее руке, а другой рукой в кружевном манжете, совсем белой, уже холодеющей, посылала воздушные поцелуи публике, в особенности галерке, где рыдали, бесновались, неистовствовали курсистки и нищие студенты, а она — Лариса — все посылала и посылала во все стороны слабеющие поцелуи прощанья, и всепрощения, и любви, и эти поцелуи — казалось мне — летели стаями, как белые голуби, кружась и кружась под театральной люстрой, и Комиссаржевская откидывалась все круче и круче навзничь, почти ложась простреленной спиной на железный садовый стол со съехавшей ресторанной скатертью, и уже никого вокруг не видела погасающими глазами, кроме прозрачных голубей, летающих по театру, и я чувствовал, что по моим щекам текут слезы и я не знаю, как их унять…


























