В наших переулках
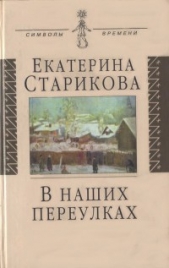
В наших переулках читать книгу онлайн
Книга профессионального литератора Е. В. Стариковой представляет собой воспоминания московской интеллигентки о своих родителях и многочисленных родственниках, о детстве и юности, проведенных и в Москве, и в деревне — на родине ее отца, — и за городом, на природе; причем все подробности взаимоотношений людей и быта даны на историческом фоне, эпоха ощущается в каждом повороте событий, в каждом слове повествования.Наибольшую ценность этим воспоминаниям придает несомненный писательский дар Стариковой. Читатель получает прекрасный образец настоящей русской прозы; книга — от первой до последней страницы — читается буквально на одном дыхании.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Знакомство родителей с Церетели продолжалось вплоть до его и Сварожича ссылки — вероятно, году в 1933–1934. Я с интересом слушала рассказы мамы, передаваемые всегда с улыбкой иронии и восхищения, об этой необыкновенной жизни и доме, где игра, жест, слово входили в реальность на первых ролях. Там не всегда была еда, но собиралась необыкновенная коллекция русской народной игрушки, там не думали о завтрашнем дне и не отказывали ничьей просьбе, если она продиктована искренним желанием, но и не признавали условностей в удовлетворении своих желаний.
Однажды поздно вечером в окно комнаты Церетели постучался какой-то прохожий и попросил «добрых людей» подать что-нибудь «закусить». Церетели засуетился и, не найдя ничего в комнате, отправился на кухню, откуда принес, перекатывая в ладонях, несколько дымящихся паром картофелин. «Откуда?» — удивился Сварожич. — «У соседей варилась, — спокойно ответил тот, протягивая в форточку картошку незнакомому пьянице. — Надо же человеку закусить». Мама смеялась: «Они вечно жалуются, что с их соседями невозможно жить».
Другой раз сестра Церетели, тоже актриса, посетовала, что ей совершенно нечего будет надеть на какое-то театральное празднество. Ни слова не говоря, Церетели царственным жестом сорвал с окна штору и молча протянул сестре. Подарок был поистине царский: это была одна из двух драгоценных восточных шалей, заменявших в этом доме занавески. Ведь Церетели был внуком Эмира Бухарского, а грузинская фамилия появилась лишь как неграмотная прихоть какого-то русского чиновника, принимавшего на службу в качестве офицера русской армии знатного инородца — отца будущего актера Камерного театра; чиновник не различал этих азиатских имен.
Подобными живописными историями об артистической экстравагантности своих недавних учителей щедро развлекала нас мама, питая мое воображение. За полную достоверность этих историй полувековой давности, конечно, не ручаюсь, но дух их — дух беспечности и игры, насмешки над былым величием и внутренней верности духовному аристократизму чувствовался мною безошибочно. Он был знаком и понятен мне по собственной моей маме: хотя у нас и не висели на окнах драгоценные бухарские шали, но если бы были, не сомневаюсь, что их постигла бы похожая участь.
Грустно-жутковатый след в моей душе оставила ранняя смерть одного из бывших студийцев, высокого, тонкого, изящного «пана Желиховского» (так звали его друзья: он был поляк). Желиховский — первый знакомый человек, о смерти которого я узнала. Он долго болел туберкулезом, а потом умер. А вскоре умерла и его мать — он был единственным ее сыном. Все вокруг были молоды, и смерть еще потрясала. А много лет спустя я узнала, что мать Желиховского умерла прямо на могиле сына: пошла зимой к нему на кладбище, как ходила каждый день, да так там и осталась. Через несколько часов ее нашла их старая прислуга. Хорошо, что мне не рассказали этой истории в детстве — мне бы ее хватило на годы одиноких ночных мук.
Пан Желиховский завещал моему отцу комплекты за несколько лет «Ежегодника императорских театров», комплекты роскошного журнала «Аполлон» и иллюстрированную монографию Грабаря «Серов». Отец мой гордился этим наследством: он не был избалован подарками.
Эти книги играли в моей детской жизни большую роль. Во время бесчисленных и долгих своих болезней я часами рассматривала их, еще не умея или едва умея читать. Я знала «наизусть» все портреты Серова и даже пыталась беспомощно копировать его рисунок с абрамцевским домом. И боялась мистических картин символистов в «Аполлоне», стараясь поскорее прикрыть их прокладками папиросной бумаги, и утешалась голландскими натюрмортами, где столько интересных предметов можно было подробно рассматривать. А когда научилась читать, выискивала на страницах «Аполлона» среди ненужных мне эстетических эссе любимые мною пьесы Лопе де Вега, нимало не заботясь, ради чьих переводов попали они на эти белоснежные, матовые, плотные страницы, само прикосновение к которым сообщало организму через кончики пальцев ощущение жизни неведомого изящества и благополучия, несмотря на ужасы мистических видений, иногда на них изображенных.
У книг, как и у людей, свои судьбы — и такие разные! Вот они, эти три издания, перекочевавшие с книжных полок молодого смертельно больного эстета в нашу аскетическую комнату, случайно развлекая чужого ребенка, который, благодаря этому подарку, вероятно один на всей земле, через полстолетия и вспомнит «пана Желиховского». А театральные ежегодники сгорели во время войны в нашей железной времянке в момент острого отчаяния от невозможности другим способом сготовить хоть какую-нибудь горячую пищу и хоть на час согреться возле раскаленных боков маленькой печки-спасительницы: уже нет ни учебников, ни лыж, ни стульев. «Аполлон», к счастью, еще раньше был продан букинистам и, может быть, книга, что я недавно брала в библиотеке, ища статью А. Белого, была та самая, что когда-то лежала на подушке возле моей детской головы. А растрепанный Серов до сих пор хранится у мамы, старея вместе с нами и неизменно вызывая во мне видом своей обложки ощущение уюта проходящей болезни, одиночества и зимних сумерек, льющихся через окно из тихого арбатского переулка.
Некоторые из бывших учеников театральной студии мелькали время от времени на горизонте нашего дома еще долго. Помню какое-то шумное и уже необычное в это время сборище в 30-е годы: Камерный театр вернулся из гастролей в Аргентину — в те времена! Сам Ганшин в необычайно широком и ярком красном галстуке появился опять у нас — но это уже теперь особая честь, это — в последний раз — жизни разошлись. Помню, что всегда с особым и не очень доброжелательным пристрастием обсуждалась блистательная, но не вызывавшая уважения судьба Юлии Солнцевой — тоже однокурсницы родителей. Неизменно признавалась ее необыкновенная красота и тут же шел такой диалог: «Счастливая Юля едет в Италию». — «Счастливая? Разве Юля может быть счастливой? Она будет там завидовать, что на итальянского короля обращают больше внимания, чем на нее». Это — не родители говорят, это — кто-то из гостей, но и родители одобряют — смеются, значит, это так и есть.
Связи с театральным миром тают и рушатся постепенно. Дольше других посещает наш дом С. Солоницын, но приходит он всегда только днем, когда папы нет дома.
Поддерживала мама связь с Марией Александровной Крестовской до самого конца ее жизни, дружила и с ее дочерьми Маргаритой и Норой Шпет (с кем из двух молодых женщин была ближе не помню, постепенно они слились в моей памяти в общий образ). Из дома Марии Александровны в наш то и дело переходили «подарки» — отжившие уже там разные «детские» предметы, например, «наш» любимый, хотя и вечно текущий и чинимый папой аквариум с пышным папирусом в нем. Через рассказы мамы переходили к нам и некоторые предания из жизни самой Марии Александровны. Самое памятное для меня — ее знакомство где-то на маленькой железнодорожной станции в Германии с великой Элеонорой Дузе, давшей молодой тогда русской актрисе несколько наставлений — не сценических, а житейских. Пересказывать их не стану, боюсь соврать за давностью лет, но впечатление они и на меня произвели.
Постоянным другом нашей семьи, до самой своей смерти оставалась Лёля Видонова.
Елену Ивановну Видонову в нашей семье все любят и все зовут «Лёлей Видоновой» и никак иначе — обязательно с фамилией. И не мудрено: «Лёля» — и мамина сестра, и мамина тетка, и мамина подруга, и моя будущая маленькая сестра. Лёля Видонова — дочь очень богатых в прошлом московских торговцев обувью (магазин на Тверской!), пламенная поклонница Камерного театра и кукольная актриса. Она одинока, у нее какой-то мучительный роман с женатым актером-наркоманом, живет она с матерью. Она некрасива, бедна, плохо одета, влюблена во всякое искусство, обожает Яхонтова и подражает ему, поет Вертинского низким хриплым голосом (она же — «Петрушка» и приносит с собой пищик, развлекая нас и дома смешным и в то же время жутковатым умением). Она всегда предельно доброжелательна, всегда оживлена и внутренне занята какой-нибудь волнующей эстетической проблемой. С ней легко и весело. Лёля Видонова была последней, кто называл в Москве моего отца «Васей», «Васенькой» (мама никогда не звала его уменьшительным именем). И я за это любила ее еще больше. Когда я вижу на экране лицо Джульетты Мазины, я вспоминаю Лёлю Видонову.
























