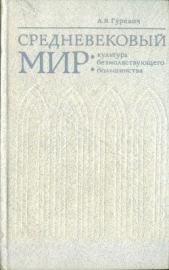Арон Гуревич История историка

Арон Гуревич История историка читать книгу онлайн
В книге обсуждаются судьбы советской исторической науки второй половины XX столетия. Автор выступает здесь в роли свидетеля и активного участника «боев за историю», приведших к уничтожению научных школ.
В книге воссоздается драма идей, которая одновременно была и драмой людей. История отечественной исторической мысли еще не написана, и книга А. Я. Гуревича — чуть ли не единственное живое свидетельство этой истории.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Статья Данилова представляла собой политическое обвинение, предъявленное выдающемуся русскому историку, который в своем научном развитии прошел долгий и непростой путь от близости к марксизму в конце XIX и в первые годы XX века к существенно иным взглядам. В последних своих работах в конце 20–х годов он с редким мужеством, если вспомнить идеологическую обстановку того времени, высказывал новые для нашей историографии взгляды, опираясь на идеи Риккерта, Макса Вебера и всего неокантианского течения, которое в XX веке явилось наиболее продуктивным для теории и практики исторической науки. Петрушевский не скрывал своих взглядов даже тогда, когда уже не был в фаворе и понимал, что это чревато всякого рода последствиями. Мне, как и некоторым моим коллегам, довелось читать его письма, из которых явствует, что Д. М. на протяжении многих лет находился, в общем, в опале. Даже будучи академиком, он практически был отстранен от педагогической работы.
Данилов подверг взгляды Петрушевского уничтожающей критике и прямо, всеми словами, заявил, что его работы были сознательно антимарксистскими. В условиях начавшегося построения социализма они были направлены на подрыв нашей передовой общественной системы. Если вспомнить тональность речей Вышинского, государственного обвинителя на процессах 30–х годов, то становится ясно, что Данилов, в сущности, использовал тот же метод дискредитации, политической и идеологической, для уничтожения выдающегося ученого. Инвективы против крупнейшего медиевиста как нельзя лучше раскрывают уровень мысли и нравственности Данилова. Как ни странно, не так давно в том же сборнике «Средние века» появилась статья памяти Данилова, в которой восхваляли, в частности, научную принципиальность его выступлений…
Статья Данилова была в высшей степени характерна для той обстановки, которая сохранялась в исторической науке, и в частности в медиевистике, на протяжении многих лет даже и после смерти Сталина. Забегая несколько вперед, вспоминаю о проходившем в Институте всеобщей истории уже в 70–х годах обсуждении рукописи первого тома «Истории крестьянства в Европе (период феодализма)». Большим коллективом авторов на протяжении нескольких лет была проделана значительная работа. В роли главного критика этого коллективного труда выступает все тот же Данилов, в то время министр просвещения РСФСР. Огонь его критики перенесен теперь на коллег. Он стремится не оставить камня на камне от обсуждаемого тома, обвиняет авторов в методологической беспринципности и в преклонении перед зарубежной наукой. Помню его фразу: «Нет такого французика из Бордо, на авторитет которого они бы не сослались!». И все в таком духе.
Двумя другими «богатырями», последовавшими примеру министра, оказались А. Н. Чистозвонов и Ю. М. Сапрыкин. Чистозвонов вообще был большой «диалектик». Прочитав главу о русском крестьянстве, он вопросил: «Так что же, товарищи авторы и редакторы, вы Сибирь отдаете Китаю?!» (а том хронологически был доведен до XI века, и ничего о русском населении Сибири в V‑XI веках там, естественно, не могло быть). Комментарии излишни.
Создалось ясное впечатление, что Данилов нисколько не заинтересован в содержании обсуждаемого, что пахло здесь вовсе не наукою, а чем‑то совсем другим. Директор Института академик Е. М. Жуков, который вел заседание, разумеется, превосходно понимал, что министр подводит мину не просто под данный коллективный труд, а под плоды работы возглавляемого им, Жуковым, Института. Иными словами, то были «разборки» среди «панов», и сценарии разрабатывались в кабинетах на Старой площади. Подозреваю, что «министр- просветитель» подобными акциями подготавливал свое вторжение в руководящие академические сферы.
Эта акция Данилова привела к тому, что публикация «Истории крестьянства» была отложена в долгий ящик, — до такой степени было перепугано руководство Института всеобщей истории, — и лишь после смерти Данилова этот труд увидел свет. Наш трехтомник едва ли представлял собой выдающееся научное достижение и скорее подводил итоги многолетних исследований большой группы историков — аграрников. Но для своего времени он или, во всяком случае, отдельные его разделы были небесполезны. Страсти, разгоревшиеся вокруг него, как мы могли видеть, не имели отношения к научному содержанию издания. С горечью приходится констатировать, что столь же чуждыми науке были в тот период и некоторые другие дискуссии вокруг наших публикаций. К этой стороне дела нам придется не раз возвращаться "Ь дальнейшем.
Возвратимся назад к 1946 году. Академия наук, вторая моя, после университета, aima mater, вынашивала меня как аспиранта удивительно долго — девять месяцев. Я сдал экзамены в аспирантуру осенью 1946 года, а был зачислен окончательно лишь весной следующего года. Между этими двумя датами происходили весьма неприятные события, связанные опять‑таки с разгулом антисемитизма.
Среди успешно сдавших вступительные экзамены в аспирантуру Института истории по медиевистике оказался, увы, всего лишь один представитель «коренной национальности», который и был принят. Всех остальных, в том числе и меня, отчислили из аспирантуры спустя несколько дней после зачисления в нее, хотя такие известные ученые, как Косминский, Неусыхин, Пичета, Сказкин, хотели видеть нас своими аспирантами. Никаких мотивировок в приказах об отчислении не было приведено, и потерпевшие обратились с письменными жалобами «наверх». Некоторые из нас имели весьма неприятные и безрезультатные беседы в «инстанциях»; мне повезло: меня не вызывали на собеседования. Но моя письменная жалоба возымела неожиданные последствия. Мне позвонил Косминский и сказал, что он был приглашен президентом Академии С. И. Вавиловым, и тот с удивительной легкостью, по словам Косминского, дал согласие на мое зачисление.
Вообще я считаю себя счастливчиком: сколько раз в жизни меня ни увольняли (кажется, пятикратно), ни разу это сделать не удалось. Вот такой я крепкий орешек. С некоторого времени я с ужасом обнаружил, что те начальники, которые на меня нападали, кончали в высшей степени трагично. О подробностях умолчу.
Моя память извлекает из своих подвалов все новые сцены и факты. Поскольку речь шла об эпопее моего поступления в аспирантуру, тут уместно вспомнить о «византийской» эскападе в моей жизни. В свое время я описал ее в статье «Почему я не византинист?», опубликованной в сборнике в честь семидесятилетия моего друга А. П. Каждана. Но эта статья вышла только на английском языке и мало кому известна.
Когда приближался срок окончания моего обучения в МГУ, Е. А. Косминский сказал, что хотел бы взять меня в аспирантуру. Но он не скрыл, что пробиться в аспирантуру еврею будет трудно (на дворе был 1946 год), и поэтому предложил готовиться к тому, чтобы стать византологом. Дело в том, что Евгению Алексеевичу было поручено создать и возглавить в Академии наук сектор византиноведения, и он надеялся, что, сдав экзамены по специальности и древнегреческому, я в аспирантуру буду допущен. Меня этот вариант не слишком воодушевил, но делать было нечего, да и вся жизнь у меня была впереди. Я начал усердно заниматься языком Гомера и Платона у милейшего Виктора Сергеевича Соколова и даже сделал некоторые переводы с древнегреческого, включенные в «Хрестоматию по истории древнего мира». Вступительный экзамен по языку был успешно сдан.
Однако вскоре после того, как меня все‑таки зачислили в аспирантуру, я начал все более отчетливо ощущать нарастающую неприязнь к предмету моих штудий. Византийские порядки слишком напоминали мне советскую сталинскую действительность. После некоторых колебаний я решился обратиться к Косминскому с просьбой возвратить меня к занятиям по истории раннесредневековой Англии. К моему радостному удивлению, когда я пришел к нему с тем, чтобы изложить эту просьбу, Е. А. сам предложил мне вернуться на английскую почву.
Тем не менее я уже был отягощен некоторыми соображениями по поводу истории Византии VI века. Незадолго до того византолог М. В. Левченко напечатал статью, в которой утверждал, что происшедшее при императоре Юстиниане знаменитое восстание «Ника» — мятеж, начавшийся на ипподроме, где состязались возницы, пользовавшиеся поддержкой разных цирковых партий, — по своей социальной природе было конфликтом между землевладельческими и торговыми кругами. С В. С. Соколовым мы изучали «Тайную историю» Прокопия Кесарийского и другие памятники, и у меня сложилось прочное убеждение, что это выступление не имело никакого отношения к классовой борьбе. Бес подбил меня написать статью с критикой «концепции» Левченко и подать ее в редакцию «Византийского временника». Это мое сочинение, разумеется, было отвергнуто. Но что примечательно: критиком выступил Виктор Никитич Лазарев, крупный искусствовед, специалист по истории византийской иконописи и ранней итальянской живописи. В своем отзыве на мою рукопись он винил автора в том, что тот посягнул на лучшие достижения советского византиноведения.