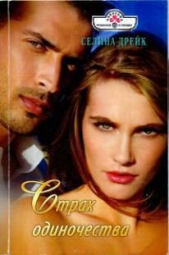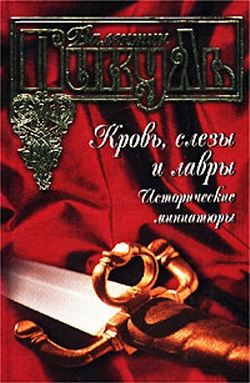Записки баловня судьбы
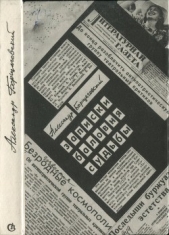
Записки баловня судьбы читать книгу онлайн
Главная тема книги — попытка на основе документов реконструировать трагический период нашей истории, который в конце сороковых годов именовался «борьбой с буржуазным космополитизмом». Множество фактов истории и литературной жизни нашей страны раскрываются перед читателями: убийство Михоэлса и обстоятельства вокруг него, судьба журнала «Литературный критик», разгон партийной организации Московского отделения СП РСФСР после встреч Хрущева с интеллигенцией…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Коммунист. Служит в Харьковском университете и заканчивает аспирантуру…
— «Член партии… Свяжитесь сейчас же с обкомом…»
Мне показалось, что он обрадован анкетными данными Добровольского.
— Хорошо сделали, что напечатали талантливую повесть, — сказал он, помолчав. — Ложитесь спать, а утром читайте «Культуру и жизнь». Спокойной ночи.
Так я узнал, что Шепилов редактирует газету «Культура и жизнь», и сообразил, что разговор о Добровольском он вел, подписывая газетную полосу в печать.
Уснуть нам уже не удалось: мы дожидались минуты, когда протиснутые в дверную почтовую щель газеты упадут на пол.
«Культура и жизнь» вышла со статьей «Дубинка вместо критики», подписанной Маслиным. К нашему новомирскому письму в защиту повести «Трое в серых шинелях» он дотачал вступительный абзац о горьковской традиции помощи молодым и назидательную концовку. Письмо хранилось у него, вызывало в нем разлитие желчи, но, когда вдруг был дан приказ защитить повесть, Маслин оказался способным, быстрым на руку «автором», — статья родилась мгновенно (Шепилов: «У меня нет вашего письма…»). Через несколько дней узналось, почему «Правда» покорно приняла выволочку от «Культуры и жизни»: письмо правдолюбцев из «Нового мира» не имело ровно никакого значения, оно пригодилось только Маслину, — о повести «Трое в серых шинелях» благосклонно отозвался Сталин.
Мое отступление «в Шепилова» и новомирские дела важно для главной темы, — в жизни все переплетено, наперед не оценишь важности каждой встречи, подробности, разговора.
Ночной телефонный диалог в феврале 1948 года расположил меня к Шепилову. А когда сотрудники Культпропа ЦК ВКП(б) по его поручению пригласили нас, театральных критиков, для обстоятельного и откровенного разговора о состоянии драматургии и театра, я укрепился в убеждении, что он доискивается правды, объективной картины и хочет добра делу, — не критикам хочет добра (такого не бывало, чтобы захотели добра критикам!), а всему театральному делу.
И случилось так, что с последней декады декабря 1948 года в незримом «поединке» сошлись Фадеев и Шепилов, но «взорвать» ситуацию, резко опустить чашу весов не удавалось ни тому, ни другому. Сделал это походя пустой, малообразованный человек, вскоре изгнанный, но тогда еще немаловажная персона — секретарь МК и МГК Г. Попов, вхожий к Сталину. В тот роковой день, по дошедшим до меня сведениям, он был принят с расположением, ибо явился с обещанием очередного чуда, на манер лысенковских «чудес», — с идеей электротрактора, коему надлежало произвести революцию в упавшем сельском хозяйстве.
5
Писательская Москва знала, что Д. Шепилов не рекомендовал Фадееву начинать Пленум с никчемного, не дающего пищи для полемики и прений доклада Софронова. Но Сталин одобрил три пьесы (шедевры ведь рождаются редко, а тут сразу три шедевра), как же не дать автору одного из них выступить на пленуме с докладом!
Решение вовсе не рискованное, скорее безошибочное, жизнь это подтвердила. Но Фадеев, талантливый писатель, муж Ангелины Степановой, горестно переживавшей унижение МХАТа постановкой бездарных пьес, не мог не понимать всей убогости опусов, одобренных Сталиным. Всякий, кто хоть немного знал Фадеева, кто знал переписываемые им собственноручно в заветную тетрадь лучшие стихи современных поэтов, кто слушал его разбор — в упрек и в назидание московским прозаикам — «Гардениных» Эртеля, кто, наконец, читал его «Разгром» или «Последний из удэге», согласится, что вымученные схемы Софронова и Сурова не могли быть ему близки. Но, вероятно, истина и нравственность в который раз уступили политиканству, конъюнктурному расчету, службистской мысли, что надо выстоять, укрепиться на командном месте, а после все поправить, всех вразумить, все расставить по местам. Оно было непобедимо, это упование на после, вера в то, что неправое дело, безнравственное, постыдное, нужно делать бестрепетно во имя некой высшей, завтрашней цели. Как неотвратимо шел Фадеев дорогой гибельных компромиссов, задыхался в разреженном до крайности воздухе 1937 года, как исстрадался укоряющими глазами отданных расправе товарищей, их, слышными ему одному, потрясенными, проклинающими голосами, — как обреченно шел он к своему искупительному выстрелу…
18 декабря 1948 года пленум по драматургии начался докладом Софронова. Он не дал пищи для размышлений или серьезного, озабоченного разговора о репертуаре театров. Неудивительно, что доклад не вызвал на трибуну никого из известных драматургов, кроме Корнейчука. Единственным из критиков, кто выступил в тот день, был, увы, я, вынужденный ответить Софронову по существу и по личному поводу. Из памяти Софронова никак не уходил мой доклад о минувшем театральном сезоне и критика «Московского характера», — в помощь ему подоспел Аркадий Первенцев, недавно возникший как драматург на афише Центрального театра Красной Армии («Южный узел»)
Пьесы Аркадий Первенцев не писал, он был только соавтором сценария двухсерийного фильма «Третий удар», в коем львиная доля авторской работы легла на кинорежиссера Игоря Савченко. Мы же с А. Д. Поповым, убедившись, что толку от Первенцева как драматурга ждать нечего, отпустили его с богом на Кубань, а после к морю, в Адлер, и принялись самостоятельно «вырубать» из двухсотстраничного сценария 60–70 страниц, пригодных для праздничного (к 30-летию Октября) театрального зрелища. В августе и мы с Валей впервые в жизни оказались в том же известинском санатории («Новый мир» печатается в издательстве «Известия»), я захватил туда для Первенцева экземпляр пьесы «Южный узел», испытывая притом еще и подлое «интеллигентское» чувство неловкости — как-то ему понравится собственная пьеса?! Ведь на обложке только его имя, без Игоря Савченко, а он текста не читал, многого по новизне не узнает, — не обидится ли он на наше с А. Д. Поповым самоуправство? Не обиделся! Даже не стал читать, сказал: «Посмотрю на генералке, чего там!» Вот так бодро, по-генеральски начался театральный дебют Первенцева, началась и, строго говоря, кончилась его карьера драматурга.
Возникновение касты сановных, «непогрешимых» литераторов, точнее, литературных деятелей, чьи писания — любые! — встречали только похвалу и громогласное признание, привело к нравственной и творческой деформации. Именитые авторы сбрасывали на плечи редакторов (чаще всего грамотных, опытных, с развитым вкусом женщин) сотни и сотни своих неухоженных страниц, не имея потом ни случая, ни времени, ни даже желания взглянуть на редакторскую правку или хотя бы прочитать верстку своей книги.
Слово художника падало в цене: если его не выстрадал торопливый автор, то откуда бы возникнуть чуду — откуда бы взяться полнозвучному слову? Редактору оставалось только перешерстить рукопись, убрать несообразности, описки, кричащие проявления безвкусицы — похозяйничать бестрепетной рукой, если он храбр или служебно независим. Сколь фантастична расхожая в те времена внутриредакционная оценка прозы: «Книга нужная, ну, а язык… Язык поправим». Такова была примета времени — времени массовых, разделенных на три сорта (три степени!) Сталинских премий, времени служебных карьер в литературе и тотального вокруг нее политиканства, времени «мастеров», то ли никогда не знавших, то ли растерявших в конъюнктурной спешке муку и радость творчества: когда в слове, и только в слове, в единственном для писателя слове, только так, и не иначе, мог воплотиться мир их действительности и фантазии. Не потому ли так разрушительно беспечен к своим страницам сделался с годами Ф. Панферов? Не потому ли эстетствовавший в молодости В. Кожевников так небрежно и неуклюже напяливал на себя маску народности, этакой простоты, за которой уже и не просматривалось искусство? Не потому ли он бросился по начальству с рукописью романа «Жизнь и судьба», не понимая, что книга выстрадана, рождена, а не сочинена и убить ее уже невозможно?
Еще живы некоторые из тех, кто редактировал многолистные эпопеи своих главных редакторов, они могли бы с пользой для литературы запечатлеть кое-что из устного, красочного на сей счет фольклора.