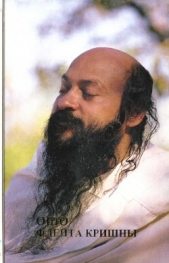Апостол Сергей. Повесть о Сергее Муравьеве-Апостоле

Апостол Сергей. Повесть о Сергее Муравьеве-Апостоле читать книгу онлайн
Натан Эйдельман — писатель, кандидат исторических наук. Он автор книг «Лунин», «Тайные корреспонденты „Полярной звезды“», «Герцен против самодержавия», «Ищу предка», «Герценовский „Колокол“», «Путешествие в страну летописей», а также нескольких десятков литературоведческих работ, документальных очерков, исторических исследований.
Сфера научных и художественных интересов Н. Эйдельмана — историческое прошлое России, особенно первые этапы русского освободительного движения; он много пишет о Пушкине, Герцене, декабристах, революционерах-шестидесятниках, стремясь раскрыть яркие, сложные характеры этих людей.
Новая книга Эйдельмана посвящена Сергею Муравьеву-Апостолу, одному из главных деятелей декабристского движения, руководителю восстания Черниговского полка на Украине, принадлежавшему к той «фаланге героев», «воинов-сподвижников», которые, по словам Герцена, вышли «сознательно на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение…». Книга рисует процесс формирования личности декабриста, его революционных воззрений, нравственных понятий.
Книга получила положительные отзывы читателей и прессы. Выходит вторым изданием.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Когда составлялся заговор, Иван Матвеевич… отказался: потом участники заговора сумели восстановить Александра I против Ивана Матвеевича, который так никогда и не пользовался его милостью».
Так рассказывал Матвей Муравьев. А вот запись Александра Сергеевича Пушкина:
«Дмитриев предлагал имп. Александру Муравьева в сенаторы. Царь отказал начисто и, помолчав, объяснил на то причину. Он был в заговоре Палена. Пален заставил Муравьева писать конституцию, а между тем произошло дело 11 марта. Муравьев хвастался впоследствии времени, что он будто бы не иначе соглашался на революцию, как с тем, чтобы наследник подписал хартию. Вздор. — План был начертан Рибасом и Паниным. Первый отстал, раскаясь и будучи осыпан милостями Павла. — Падение Панина произошло от того, что он сказал что всё произошло по его плану. Слова сии были доведены до государыни Марии Федоровны — и Панин был удален. (Слышал от Дмитриева)».
Эта запись (сделанная Пушкиным, скорее всего, осенью 1834-го) до сих пор отчасти таинственна. До истины нелегко доискаться даже такому важному человеку, как поэт Иван Иванович Дмитриев (при Павле — обер-прокурор Сената, при Александре I — министр юстиции). Его память, к которой нередко обращался Пушкин, занимаясь потаенной русской историей, была точна. Начало эпизода до слова «вздор», кажется, довольно верное воспроизведение разговора Дмитриева с царем, происходившего между 1810 и 1812 годами. Именно в это время министр юстиции много занимался составом Сената; позже царь уехал на войну, Дмитриев попал в немилость, в 1814-м попросился в отставку и почти безвыездно жил в Москве.
Итак, Александру донесли, что Муравьев «хвастался». «Вздор!».
Это кто говорит — Пушкин или Дмитриев? Скорее всего, Дмитриев, потому что пушкинское пояснение — «слышал от Дмитриева» — относится ко всему эпизоду. «Вздор», — говорит Дмитриев, и, вероятно, соглашается Пушкин. Дмитриев и Пушкин знают, что царь говорит вздор, потому что план заговора (регентство, конституция) принадлежит Панину и Рибасу.
Насчет адмирала Рибаса точно известно, что он был одним из первых заговорщиков, по умер еще в декабре 1800 года. Непонятно только, когда успел раскаяться? Впрочем, Дмитриев мог знать и нечто нам неведомое. И все же — как странно: смысл воспоминания Дмитриева в том, что не Пален с Муравьевым, а Панин все придумал. Но ведь Иван Матвеевич был с Паниным заодно, «преданная душа». Естественно было бы услышать царское негодование по поводу сговора «Панин — Муравьев»… Но Дмитриев настаивает: «Вздор!» — не Пален — Муравьев, а Панин — Рибас. Как быть? Других сведений, отвергающих или дополняющих это воспоминание, нет; Дмитриев очень много знает…
Возможно, все-таки Иван Муравьев в конце 1800-го и начале 1801-го работал с другим лидером заговора, Паленом (кстати, у Палена, несомненно, тоже была идея — ввести «хартию»…).
Иван Матвеевич виноват кругом: не хотел переворота без конституции, и, кроме того, «хвастался»…
В пушкинской записи угадываются два разговора Дмитриева с Иваном Матвеевичем: после первого Дмитриев ходатайствует, царь отказывает. Дмитриев сообщает об отказе Ивану Муравьеву, тот говорит: «Вздор» — и объясняет события по-своему.
Тут пора остановиться. Фактов нет. Приехав в Россию, Иван Матвеевич встречает холодный прием и уходит в отставку. Детям, как мы знаем, он мало рассказывал про свои тайны 1800–1801 годов. Так ли уж необъяснима была для него высочайшая немилость? Да одно то, что незадолго до этой опалы прежнему другу и покровителю Панину запрещен въезд в столицы, уже многое объясняет. Нет, Иван Матвеевич знал, в чем дело, и однажды кое-что даже занес на бумагу. Это было вскоре после неудачного разговора Дмитриева с государем… Престарелый Гаврила Романович Державин, прочитав в журнале умные и дельные рассуждения Ивана Матвеевича, написал ему, что удивлен, почему такой человек не находится на государственной службе. Ответ Ивана Матвеевича, хотя и написанный в 1814-м, содержит целую исповедь, касающуюся прежних лет. Чтобы стали понятны главные события и разговоры в семье Муравьевых, исповедь должна быть приведена полностью:
«Если бы в течение бурной политической жизни моей несправедливости, самые чувствительные для сердца, не излечили меня навсегда от замашек излишнего самолюбия, то письмо вашего высокопревосходительства могло бы мне вскружить голову: но я научен в великом училище злополучия, и плод сего испытания состоит, смею сказать, в том, что могу устоять даже противу похвал Державина.
Я родился с пламенной любовию к отечеству; воспитание еще возвысило во мне сие благородное чувство, единое достойное быть страстию души сильной; и 44 года не уменьшило его ни на одну искру; как в двадцать лет я был, так точно и теперь, готов, как Курций, броситься в пропасть, как Фабий обречь себя на смерть: но отечество не призывает меня; итак безвестность, скромные семейственные добродетели — вот удел мой. Я и в нем не вовсе буду бесполезным отечеству: выращу детей, достойных быть русскими, достойных умереть за Россию. — Благодарю Всевышнего! Как золото в горниле, так душа моя очистилась несчастием: прежде могло ослеплять меня честолюбие, теперь же любовь моя к отечеству чем бескорыстнее, тем чище; пылает — не ожидая ни наград, ни даже признательности.
Честолюбие — ненавистный призрак! Он помрачил свет дней моих. — Первые следы мои на его поприще усыпаны были цветами, последние — тернием. Я многим показался любимцем счастия, и гнусная клевета омрачила полдень жизни моей. С тех пор протекло восемь лет; недавно еще раны сердца моего совсем закрылись; я отдохнул; и теперь честолюбие представляется мне, как тяжкий сон, от которого просыпаясь, душою веселюсь, что снова ощущаю жизнь и сладость бытия.
Вот, почтеннейший Гаврила Романович, ответ мой на столь лестное для меня ваше разумение. Людей ищут — говорите вы — меня искать не будут: я это знаю. Рука, которую и несправедливую против меня я лобызаю, отвела меня навсегда от пути служения: повинуюсь и не ропщу. Несносно мне одно только — ложное, несправедливое обо мне заключение; если бы не оно, я почел бы себя счастливейшим человеком на свете. Однако же и это хорошо. Вы знаете, что древние добровольно лишались чего-нибудь для себя драгоценного, когда думали о себе, что они счастливее, нежели обыкновенно суждено быть смертному; я находился бы точно в сем положении, если бы несправедливость иногда не возмущала во мне спокойствия духа — и вот жертва моя богине Немезиде.
Письмо ваше я сохраню, как драгоценнейший для себя памятник. Когда меня не будет на земле, когда память о мне едва останется в роде моем, тогда письмо ваше, попавшись в руки которому-нибудь из моих внучат, заставит его с душевной гордостью сказать: предок мой достоин был служить отечеству: так думал о нем Державин».
Сказанное, недосказанное, даже невысказанное в этом письме, самый стиль его (Державин подчеркнуто писал по-русски, Иван Матвеевич также и отвечал) позволяют кое-что понять, угадать.
«Любимец счастья», призраки честолюбия, поприще, усыпанное цветами, — и так до 35 лет. Затем — крушение и муки; муки жестокие — восемь лет «раны сердца» не закрывались и, кажется, еще не совсем закрылись… Что же случилось? «Великое училище злополучия», «тернии», «гнусная клевета», «несправедливая рука», «несправедливое обо мне заключение».
Очевидно, Иван Матвеевич незадолго перед тем объяснялся с И. И. Дмитриевым насчет Сената и царской немилости, а теперь переживает из-за клеветы — будто он писал конституцию под нажимом Палена и хвастался, что не принимал 11 марта «без хартии»… Но, видимо, дело не только в этом. В письме четырежды говорится о честолюбии («излишнем честолюбии»). Почему-то оно названо даже «ненавистным призраком»: раньше, как можно понять, оно столь было сильным у Ивана Матвеевича, что «ослепляло», рождало сны вместо ощущения жизни и сладости бытия. Создается впечатление, что не только клеветников — себя винит автор письма; та клевета как-то даже вытекает из его честолюбия: «отечество не звало», но он сам что-то предлагал отечеству! Кажется, Иван Матвеевич проявил когда-то чрезмерное усердие, полагая, что это полезно для отечества, надеясь на «награду и признательность», и это усердие могло быть истолковано как исключительное стремление к собственной карьере. 1800–1801 годы, конец павловского царствования, дружба с Паниным, предложения заговорщиков — вот тогда и было проявлено это усердие, позже криво истолкованное, поднесенное царю определенным образом.