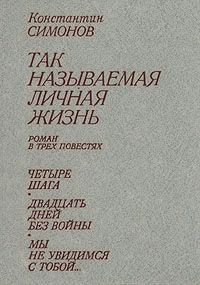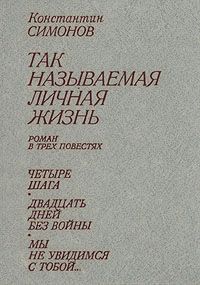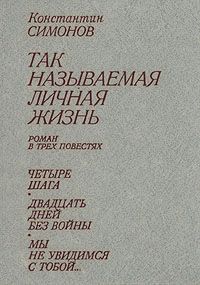Так называемая личная жизнь

Так называемая личная жизнь читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
После него говорила старая женщина, похожая на учительницу. Начала ровно, спокойно, даже заглядывала в бумажку. Потом заплакала. Снова прочла несколько фраз по бумажке и снова заплакала и, махнув рукой, отвернулась.
А потом взрослые подтолкнули вперед девочку. На ней была шинель с обрезанными полами и солдатская ушанка, наверно доставшиеся с какого-то мертвого, потому что живые солдаты не носят при себе по две шинели и ушанки, чтобы давать их девочкам. Из-под ушанки у нее торчали в стороны две косички. Лицо было спокойное, а руки она, как только вышла, заложила назад за спину, как будто собиралась читать стихи на школьном вечере.
Она говорила, держа руки за спиной, и лицо у нее было спокойное, и голос тоже. Ровный, топкий, хорошо слышный, мертвенно-спокойный голос, которым она рассказывала оттуда, с грузовика, как немцы повесили ее отца и мать и как вес это было, потому что все это было у нее на глазах. И говорила о них: не отец и мать - а каждый раз называла их: папа и мама. И в том, как она их называла - папа и мама, - этим своим тонким, хорошо слышным голосом, было что-то невыносимое.
Толпа начала шевелиться и всхлипывать. А она все повторяла оттуда, с грузовика, своим тонким, ровным голосом: папа, мама, папа, мама.
* * *
Уже давно ехали по степи, а у Лопатина в ушах все еще стоял этот голос.
Прокурор, сев в машину, долго молчал, а потом сказал, что вчера днем, когда хоронил товарищей, встретился с врачами, производившими эксгумацию сваленных в известковые ямы взрослых и детских трупов; врачи говорят, что эти люди были умерщвлены каким-то еще неизвестным способом; есть уже два показания жителей, что у немцев работала какая-то газовая машина смерти...
- Что за машина? Никогда раньше не слышал, - сказал Лопатин.
- Неизвестно, какая машина. Пока не захватили. Но двое показали, что она была здесь. А медицинская экспертиза заставляет думать, что смерть наступила от удушья.
Прокурор замолчал, и Лопатин не стал больше расспрашивать про эту газовую машину. Он уже привык, что на войне, где всегда в достатке действительно страшного, вдруг то здесь, то там вспыхивали слухи о всяких страстях-мордастях, в которые он обычно не верил: то об отравленных пулях, то о фашистских смертниках, прикованных цепями к пулеметам...
"Газовая машина", - подумал он и мысленно перевел на немецкий во множественном числе: газмашинен. И оттого, что сначала перевел, а потом мысленно произнес по-немецки, в этом слове появилось что-то реальное и неумолимое: "Газмашинен"...
Они ехали все дальше и дальше по голой степи. И чем дальше ехали, тем все ближе надвигалась на них война своими уже привычными приметами. Санитарный автобус, грузовики с пустыми снарядными ящиками - это оттуда, навстречу. Потом жиденькая колонна пленных - человек в двадцать с двумя конвоирами - тоже оттуда. Потом неполная, человек в пятьдесят, рота - должно быть, пополнение - туда. Воронки справа от дороги, потом слева, потом опять справа. И около одной из них - торчащая из-под снега черная нога. Испуганно шарахнувшаяся в сторону от машины собака с костью в зубах. Немецкий танк со свороченной башней, а немного подальше, прямо на дороге, сгоревший бронетранспортер, тоже немецкий.
Чувствовалось, что наступление шло здесь пока что без больших боев. Наверно, немцы поспешно отходили, прикрываясь подвижными заслонами.
Объехав бронетранспортер, обогнали солдата, шедшего, опираясь на дрючок, в сторону фронта. Лопатин приказал водителю остановиться и, открыв дверцу, спросил дохромавшего до машины солдата, куда он идет.
Солдат объяснил, что имел вывих ноги; идет из госпиталя, догоняет свою часть. И, не дожидаясь дальнейших вопросов, полез в карман за медицинской справкой.
- А где она, ваша часть? - не став смотреть справку, спросил Лопатин.
Солдат махнул рукой вперед.
- Говорят, вчера в Советском была. Скоро развилок будет с указателем: "На Соломенское". А мне от этого развилка влево.
Соломенское был тот пункт, где, как предполагалось, сегодня, с утра, находится оперативная группа армии Ефимова, и Лопатин сказал солдату, чтобы садился в машину - подвезет его до развилки.
Солдат был из тех, кого в армии числят старичками, и оказался словоохотливым. Пока ехали пять километров до развилки, он, радуясь собеседникам, отвечал на вопросы Лопатина о первых двух днях наступления, дальше он ничего не знал, потому что как раз подвихнул ногу, а потом рассказал про себя, что в молодости на гражданской воевал здесь же, недалеко, в Ногайской степи, в отрядах по борьбе с бандитизмом, а в эту войну уже два раза ранен и имеет "За отвагу"; что сам из-под Барвенкова, вдовый и бездетный, жена померла перед самой войной, а хата, как написали соседи, от немца сгорела; только это и успели ему написать, перед тем как немцы во второй раз заняли Барвенково, и теперь у него одна дума: после войны найти где-нибудь вдову при хате и присоединиться к ней.
- Если смерть миную, - добавил он строго, без улыбки. - Смерть салопница; она, жадюга, кого хочешь подгребет, ей все годны. Главное, чтоб не зря пропасть. Сперва доказать, а после умереть. Так и так, если живой будешь, все равно не навсегда! В мои года даже при лучшем настроении больше двух десятков навряд ли прожить! Я, когда в бою, располагаю так: чему быть, того не миновать. Располагаю так: хоть трясись, хоть пой, хоть плачь, а уж от пули не уйдешь, коли она вышла тебе. Но одному веку всем дадено, а двух веков никому не жить. Раз напал враг, надо что-то с ним делать. А что с ним сделаешь? Не ты его, так он тебя.
Он говорил все это без удальства, с верой в правоту и силу своих слов. Хотя, конечно, говорил не в первый раз и не первому человеку, и чувствовалось, что считает свои слова поучительными для других. Но в то же время это был его собственный, действительный взгляд на жизнь и смерть. Взгляд, в соответствии с которым он поступал на войне так, а не иначе.
"Да, так и есть, раз враг напал, надо что-то с ним делать, - подумал Лопатин. - Короче, сколько ни думай, не скажешь".
Он вспомнил великую актрису, хотевшую знать, как ей там, в Ташкенте, ставить пьесу о войне, и без самоуничижения подумал, что, как ни старался, все-таки не сумел дать ей почувствовать то, что сам чувствовал сейчас, слушая этого солдата, самого главного на войне человека, который в конечном счете сам за себя решает, как ему быть: лечь или подняться, выстрелить или не выстрелить, побежать или устоять. И при всей вере в силу приказа, и даже при всем значении этой веры - все равно это так!