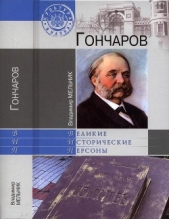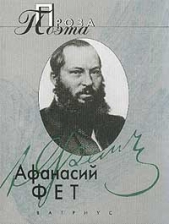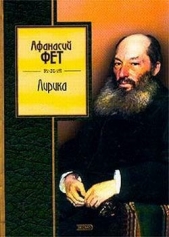Воспоминания

Воспоминания читать книгу онлайн
В книгу «Воспоминания» вошли мемуары А.А. Фета («Ранние годы моей жизни» и «Мои воспоминания»), которые рисуют яркую картину русской жизни на протяжении почти шести десятилетий и представляют собой источник для изучения жизненного и творческого пути А.А. Фета (1820–1892).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Не стану утомлять читателя описанием охот за куропатками и с 8-го сентября за вальдшнепами, которым мы предавались с Тургеневым в окрестностях Спасскаго.
Время подходило к октябрю, и мы стали собираться в Москву, куда Борисовы однако с нами не поехали. По приезде в Москву я встретился с самыми неутешительными событиями. Бедная невестка моя Екат. Дмитр. лежала в горячке на квартире на Мясницкой, тогда как отец ее Мансуров проживал отдельно в одном из ближайших переулков. Доктор, у которого я поместил больного брата, рассказывал, что брату советовали ежедневные прогулки, и что он, по-видимому, стал укрепляться в силах; но однажды доктор заметил у него значительную опухоль груди, которая еще прибавилась на следующий день, а на третий утром его нашли в постели скончавшимся от водяной в груди. Об этом конечно умолчали перед больной его женою, до собственной кончины не знавшей о смерти мужа, за которым последовала в самом непродолжительном времени. Поклонившись ей в ее глазетовом гробу, я невольно припомнил, как за год с небольшим они оба с мужем волновались по случаю тринадцати за столом в день ее рождения.
Со времени нашего с женою отъезда в Москву, Лев Никол. Толстой успел, как видно из следующего его письма, присланного мне в Москву из Новоселок, поохотиться с Борисовым, который и сдал ему на время своего доезжачего Прокофия с лошадью и с гончими.
24 октября граф писал мне в Москву:
Душенька дяденька Фетинька! Ей — Богу душенька, и я вас ужасно, ужасно люблю. Вот-те и все. Повести писать глупо, стыдно. Стихи писать… Пожалуй пишите; но любить хорошего человека очень приятно. А может быть против моей воли и сознания не я, а сидящая во мне еще не назревшая повесть заставляет любить вас. Что то иногда так кажется. Что ни делай, а между навозом и коростой нет-нет да возьмешь и сочинишь. Спасибо, что еще писать себе не позволяю и не позволю. Изо всех сил благодарю вас за хлопоты о ветеринаре и пр. Нашел я тульского и начал леченье. Что будет — не знаю. Да и черт с ними со всеми. Дружинин просит по дружбе сочинить повесть. Я право хочу сочинить. Такую сочиню, что уж ничего не будет. Шах персидский курит табак, а я тебя люблю. Вот она штука то. Без шуток, что ваш Гафиз? Ведь как ни вертись, а верх мудрости и твердости для меня, это только радоваться чужою поэзиею, а свою собственную не пускать в люди в уродливом наряде, а самому есть с хлебом насущным. А иногда так вдруг захочется быть великим человеком и так досадно, что сих пор еще это не сделалось. Даже поскорее торопишься вставать или доедать обед, чтобы начинать. Всех так называемых глупостей не переговоришь, но приятно хоть одну сказать такому дяденьке, как вы, который живет только одними так называемыми глупостями «закурдалами». Пришлите мне одно самое здоровое переведенное вами с творение Гафиза me faire venire à la bouche, а я вам пришлю образчик пшеницы. Охота надоела смерть. Погода стоит прелестная, но я один не езжу. Гончие ваши, Иван Петрович, живы и здоровы, равно Прокофий и серый мерин. Очень благодарю вас за разрешенье и воспользуюсь им до порош. Тогда отправлю Прокофия с гончими. Еще красного зверя, с тех пор как с вами расстался, травил и затравил одну лисицу около себя в полях и сам. На днях напишу вам, а теперь только благодарю за хлопоты и крепко обнимаю. Энциклопедию пришлите. Тетенька очень благодарит за память; и это не фраза, а всякий раз как я ей прочту вашу приписку, она улыбнется, наклонит голову и скажет: «однако (почему однако?) какой славный человек этот Фет». А я знаю за что славный — зато, что она думает, что он меня очень любит. — Ну-с прощайте. Пописывайте мне иногда без возбудителя ветеринара
Л. Толстой.
30-го октября Тургенев писал из Спасского:
Пишу к вам две строки, чтобы, во-первых, попросить позволения поставить у вас на дворе на несколько дней мой тарантас, а во-вторых, чтобы предуведомить вас о моем приезде в Москву не ранее 5-го или 6-го ноября. До скорого свидания.
Ваш Ив. Тургенев.
Действительно, 5 ноября не успели мы окончить кофею как у нашего крыльца прогремел знакомый мне тарантас, и в дверях передней я встретил взошедшего по лестнице Тургенева. Входя в отведенный ему кабинет мой, он сказал, что, оправившись с дороги, выйдет пить чай к хозяйке.
За чаем он был, чувствуя себя здоровым, весел и сказал, что сегодня никуда не поедет со двора, а усядется писать письма и будет обедать дома и разве вечером куда-нибудь сбегает. Когда через несколько времени я вошел к нему, то не узнал своего рабочего стола.
— Как можете вы работать при таком беспорядке? говорил Ив. Серг., аккуратно подбирая и складывая бумаги, книги и даже самые письменные принадлежности.
В 5 час. он нашел на столе суп-потрох, о котором с любовью вспоминал и заграницей.
За исключением С. Т. Аксакова, не выезжавшего из дому по причине мучительной болезни, кто только не перебывал из московской интеллигенции у Тургенева за три дня, которые провел он в нашем доме.
Между тем 14 ноября сестра Надя благополучно разрешилась от бремени сыном, названным в честь деда и заочного восприемника П. П. Новосильцова — Петром. По настоянию родительницы, как я узнал впоследствии, крестной матерью была избрана сестра Любинька, во все продолжительное время сватовства Борисова относившая к нему свысока и громко повторявшая, что брак с Борисовым есть прямое дело рук моих, чего я в свое время не скрывал от самой Нади.
Люди в большинстве случаев действуют по тайному инстинкту, не взирая на явный вред, происходящий для них от их действий.
Любинька, например, всю жизнь истерически рыдала от самой обидной брани мужа за ее невозмутимое упрямство и все-таки продолжала упрямиться.
Приехавши в Новоселки в качестве восприемницы, не могла же она не чувствовать, что дальнейшая ее оппозиция тяжело отзовется на ней же самой.
Тем не менее она неуклонно продолжала к ней стремиться, как магнит к полюсу. Зная, что Иван Петрович по-французски не говорит, она у постели больной упорно говорила при нем на этом языке, а по-русски выражала только радость, что новорожденный похож на красивую мать. Подобный тон, разумеется, не послужил к улучшению отношений Любиньки к Борисову.
Между тем из своей воронежской деревни приехал к нам брат Петруша на зиму и поместился в прежней комнате Нади. В свое время он в Харькове курса не кончил, но теперь ему припала охота к гуманиора. От души желая быть ему полезным, я принялся с ним за чтение хорошо мне знакомого Горация и заставлял брата с моих слов составлять теорию искусств, начиная с пластических до тонических включительно. Я старался выставить скелет эстетики в самых кратких и очевидных его сочленениях.
Однажды гостивший у нас С. С. Громека прочел эту небольшую тетрадку и просил ее списать для руководства его детям. Я должен признаться, что труды наши оказались безуспешны, если не принять в соображение, что они помешали брату соскучиться в Москве; но в скорости явились неоцененные братья Толстые и, захватив в свою охотничью среду задушевного и добродушного брата Петрушу, одушевили его окончательно. Из Парижа, куда за два года перед тем, в 1856 г. Петруша провожал брата Василия с женою, он вывез дорогое ружье де-Вима, с которым с тех пор не расставался, хотя с ним и не охотился, говоря, что его лягавые не заслуживают чести, чтобы с ними охотились с таким ружьем. Брат был величайший чистюля, но щеголем никогда не был и, вероятно, более инстинктивно вывез из Парижа наполеоновские усы и эспаньолку.
Наши музыкальные вечера установились снова, и графиня М. Н. Толстая нередко на них присутствовала. Помню, как однажды брат, увлекшись похвалами своему де-Виму перед находившимся в музыкальной зале Н. Н. Толстым, не вытерпел и побежал в свою комнату за любимым ружьем, чтобы убедить графа в совершенстве оружия. Пронося ружье через домашние комнаты, брат вошел с ним в залу в ту минуту, когда раздался первый музыкальный аккорд. Приходилось обождать, и брат, опустивши ружье к ноге, остановился как раз за креслом графини Толстой.