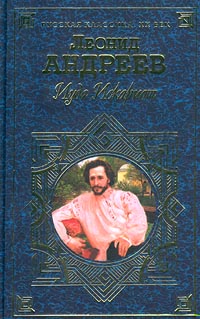Воспоминания
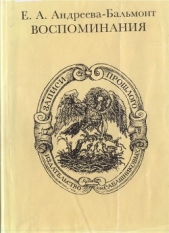
Воспоминания читать книгу онлайн
Екатерина Алексеевна Андреева-Бальмонт (1867–1950), жена известного русского поэта К. Д. Бальмонта, благородная и обаятельная женщина, обладала живым и наблюдательным умом и несомненным литературным талантом. Это делает ее мемуары — бесценный источник по истории русской культуры и быта сер. XIX — нач. XX вв. — предметом увлекательного чтения для широких кругов читателей. Воспоминания Е. А. Андреевой-Бальмонт, так же как и стихи и письма К. Д. Бальмонта к ней, напечатанные в приложении, публикуются впервые. Книга иллюстрирована фотографиями из семейного архива А. Г. Андреевой-Бальмонт.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Бальмонт мне подробно рассказывал в письмах о своей дочери Мирре. Он ею очарован, ее умом, талантливостью, интересами, которые она проявляет к книге с раннего детства. Она очень много читает: сказки, путешествия, стихи, романы. Неподходящую литературу приходится держать под замком. Она ласкова, нежна, вкрадчива и просто опьянительна своим детским очарованием. «Верно, моя мама была такая». «Между прочим, она замечательно читает свои стихи и стихи отца. Я хотел бы так читать», — пишет Бальмонт. «Это дитя меня утомляет безгранично. Но стихи она пишет действительно замечательно. Я тебе их пошлю. В ней есть черты гениальности». Но характер у нее трудный: она прихотлива, капризна, своевольна, вспыльчива. Жить с ней в одной комнате, как вскоре пришлось Бальмонту, очень тяжко.
«Ты бы очень ее полюбила, если бы часто видела, — пишет Бальмонт, — и именно ты, может быть, могла бы ее воспитать, Елена слишком мягка с ней». И еще в другом письме: «Мирра похожа на редкостный цветок, и нет сада, где бы его посадить».
Но сыном своим он был очень недоволен. Все, что он делает, ему не нравится. Со временем он становится ему все более чужд и неприятен. Я думаю, что тогдашнее раздражение Бальмонта на сына происходило от того, что Бальмонт совсем не выносил ненормальных людей, психопатов, людей с какими бы то ни было душевными отклонениями. Раньше, когда Коля был здоров, между ними были очень хорошие отношения. Летом он приезжал к нам гостить в Ладыжино. Коля был близок с отцом, Бальмонт к нему нежен и внимателен; он обращался с ним скорее как с молодым другом, чем как с сыном. Целую зиму 1915–1916 годов Коля жил у отца в Петербурге, к их обоюдной радости, без малейших столкновений или недоразумений. Бальмонт сам был в жизни чрезвычайно уравновешен и говорил о себе: «Во мне много энергии, не гаснущей и не изменяющей мне, ибо моя душевная подавленность (когда станет, наконец, невтерпеж) не длится более нескольких часов. Воистину я Солнечный, и хорошо, что хоть я один не поддаюсь мутным туманам и упорно дышу золотым воздухом Поэзии».
Бальмонт продолжал в том году выступать в самых разнообразных обществах: читает стихи, произносит речи. При открытии Русско-итальянского общества при Румянцевском музее он говорит на тему «Что мне дает Италия». Выступает в Доме свободного искусства на испанских вечерах, говорит об испанском народном творчестве, об испанской песне. При постановке пьесы Сервантеса читает вступительное слово об испанском «Театре чудес». Но эти бесчисленные выступления надоели, а отказаться нельзя — заработок необходим. «Приходится извиваться каким-то многоузлистым змеем, чтобы ухитриться успевать — и зарабатывать на жизнь, и помогать другим, и читать, и писать стихи. Пока хватает сил на все».
Он часто слушает музыку и жалеет, что мы не с ним наслаждаемся этим «чистейшим, кристальным совершенством — музыкой». Не пропускает концертов, где играют Скрябина. Восхищается игрой Кусевицкого, с которым дружит и часто видается. Слушает Добровейна, Боровского, певицу Кошиц, в которую мгновенно влюбляется… на три дня. Пишет ей стихи. «Мне кажется, ты улыбаешься, — пишет Бальмонт мне, — и говоришь: неужели все еще не надоело? Милая, нет. Я все еще чувствую себя пламенным гимназистом, застенчивым и дерзким». Он читает много по музыке, его заинтересовывает «музыкальный инструмент», и он хочет писать об этом.
Наступает весна 1918 года. Год как мы расстались. Бальмонт всячески утешает меня. «Мы дождемся свидания, будем крепиться, мы оба всегда были тверды в испытаниях. Мы еще дождемся светлых дней, когда снова будем жить в атмосфере труда и бессмертия славящего Океана…»
В июле между нами окончательно прекратилось сообщение. Бальмонт писал через два месяца: «Мы разъединены, как в сказке. Больше двух месяцев прошло как ты ничего не знаешь о нас, мы о тебе. Последние письма вернулись, не доехав всего несколько станций».
За это время Бальмонт много переводит: с испанского — драмы Тирсо де Молина, со шведского — Стриндберга «Белую лебедь» (для Нового Петроградского театра) и «Ламия» Руда, датского писателя. Бальмонт проводит лето в Москве между своими двумя домами в Николо-Песковском и Машковом переулках. Только в 1919 году письма его стали приходить аккуратнее. Бальмонт продолжал переводить стихами испанские драмы: «Овечий Ключ» («Фуэнте Овехуна» Лопе де Вега). Затем «Ромео и Джульетту» Шекспира.
Зима 1918 года была для Бальмонта тяжелая. Ему приходилось зарабатывать «неистовые суммы», чтобы только сколько-нибудь прокормить себя и близких. Они погибали от холода и голода и не чаяли пережить зиму. Елена, лишившись квартиры после смерти матери, не может нигде устроиться. Бальмонт с ней перебрался в скрябинскую квартиру; там лопнули трубы в это время, и в комнатах уже не холод, а мороз, температура ниже нуля. Бальмонт все же, по своей всегдашней привычке, спал в одном белье и каждое утро мылся с головы до ног. Елена и Мирра не могли раздеваться и спали в шубах. Девочка целые недели не выходила из постели. Наконец обе так захворали, что там оставаться им более нельзя было. И Бальмонт взял их в нашу квартиру, которая была рядом со скрябинской. Сам он поехал в Саратов за хлебом. Но и в нашей квартире был мороз, холод. Найти ни другой квартиры, ни комнат нельзя было, и Бальмонт переехал в окрестности Москвы, в Новогиреево, где и поселился в трех крошечных комнатах. И стал делить свои дни между Новогиреевым и Москвой.
Он работал с утра до вечера, утомлялся очень, но не жаловался. «Все же, смотря кругом, я могу радоваться. Из всех поэтов, оставшихся в Москве, лишь я один никак не утратил полной своей самостоятельности, я тот же, что был всегда, и таким хочу остаться». Но все же трудности жизни донимают Бальмонта. В первый раз за эти годы он начинает мечтать об отъезде за границу. Он надеется, что границы скоро откроются, и тогда он со всеми нами поедет «в нашу светлую Францию». Бальмонта очень поддерживает надежда на новую полосу путешествий, изучений и творчества. Он всегда верит в благую Судьбу.
За невозможностью путешествовать он в свободные часы читает книги по географии, по исследованию разных стран. И на иностранных языках книги, которые перечисляет: «По-гречески — Евангелие; по-латыни — Саллюстия; по-испански — Сервантеса, Кальдерона и др.; по-итальянски — „Divina Comedia“ [150], по-португальски — Перейра „Музыка в Бразилии“; по-французски — драмы Гюго; по-английски — книгу некоего знатока Достоевского; по-немецки — Новалиса; по-норвежски — две вещи Бьернсона, которые не знал; по-шведски — Стриндберга; по-польски — Виспянского и т. д.». Он продолжает переводить Кальдерона, «Невидимка» будет поставлена в студии Художественного театра.
У него готова новая книжка стихов «Жемчужный крик». Других он не хочет печатать по новой «идиотской» орфографии. Бальмонт не раз высказывал в печати свое возмущение проводившейся тогда реформой правописания. В одной тифлисской газете (1 июля 1917 года) было напечатано его мнение об этой реформе: «Как возможно ломать какой угодно язык, тем паче великий русский! Ведь язык — это же не случайное сцепление звуков в случайном порядке, язык вырабатывается исторически, вместе с характером и душой народа. Может ли один человек упростить или же изменить во имя каких угодно принципов результат долгих веков? И во имя чего вся эта ломка! Для скорости и простоты начертания? Простоты изучения? Нельзя одни тоны заменять другими. Не говоря уже о нюансах звуков речи. Да и что за упрощение: ф вместо ѳ? Фита проще в написании — круг и черта, ф — полукруг, черта, снова полукруг. Хорошо упрощение… Или ѣ совсем не е. Это особый звук. Заметьте, что крестьяне, не искушенные ученьем, гораздо реже ошибаются в употреблении этой многострадальной буквы, чем интеллигенты, ибо чувствуют ухом, природным звуковым чутьем, где место эпси, где надо е. И потом, отчего эти заботы о сохранении времени за счет правописания? Если уж время так дорого, сокращали бы его на преферансах или на чем другом в этом роде…», — с искренней досадой в голосе пытается шутить поэт, но видно, что он глубоко возмущен и ему не до шуток.