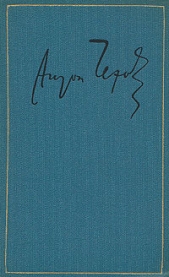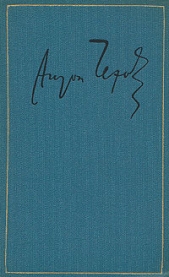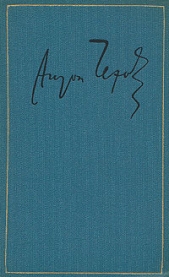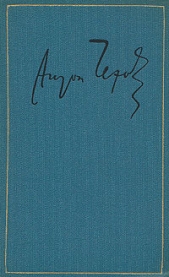Чехов. Жизнь «отдельного человека»
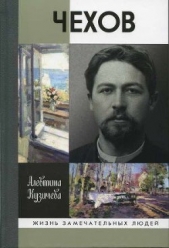
Чехов. Жизнь «отдельного человека» читать книгу онлайн
Творчество Антона Павловича Чехова ознаменовало собой наивысший подъем русской классической литературы, став ее «визитной карточкой» для всего мира. Главная причина этого — новизна чеховских произведений, где за внешней обыденностью сюжета скрывается глубинный драматизм человеческих отношений и характеров. Интерес к личности Чехова, определившей своеобразие его творческого метода, огромен, поэтому в разных странах появляются все новые его биографии. Самая полная из них на сегодняшний день — капитальное исследование известного литературоведа А. П. Кузичевой, освещающее общественную активность писателя, его личную жизнь, историю создания его произведений. Книга, выходящая в серии «ЖЗЛ» к 150-летию со дня рождения Чехова, рекомендуется к прочтению всем любителям и знатокам русской литературы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
По обыкновению, не возражая на критику, соглашаясь, что плохо выразил что-то, Чехов отстаивал суть: «И почему это раздражение — глупость? Оно <…> не так глупо, как Вам кажется. Оно меньше нуждается в оправдании, чем, например, идиллическое отношение к религии, когда любят религию по-барски, с прохладцей, как любят метель и бурю, сидя в кабинете». Написал эти строки и оборвал разговор о религии. Прибегнул к иронии, как всегда в таких случаях. Не менее консервативных рассуждений Суворина с их «фальшивым звуком» Чехов не жаловал его статьи с «божественными словами», вроде «возлюбим друг друга» и т. п.
Чехов не избегал разговоров о религии, о церкви, но уклонялся от бесед и рассуждений о Боге, о вере в Бога. Не то что в большой компании, но даже наедине с кем-то. То было сокровенное. Но даже о религии он высказывался не часто, неохотно. Может быть, в числе прочего и потому, что это вызывало в памяти таганрогские годы.
Павел Егорович своим усердием сверх ума и меры, бесконечными спевками в самодеятельном хоре, наказаниями за малейшее нарушение религиозных предписаний и церковных правил, не желая того, видимо, «отлучил» детей от религии. Вряд ли его средний сын забыл историю с злополучной пахлавой: отец даже не высек, а жестоко избил тринадцатилетнего сына на Страстной неделе за то, что тот, голодный, истомленный долгим постом, посмел съесть кусочек сладкого пирога.
Дети добродетельного регента не стали безбожниками, но в храм ходили скорее по обязанности, чем по душевной потребности. Бесконечное «целование» рук, наблюдения — в лавке отца, на торжественных обедах в отчем доме и у дяди — повлияли на ироничное отношение к некоторым, по выражению Чехова, «светильникам церкви». В 1887 году, в одном из посланий из Таганрога в Москву, он набросал сцену в доме Митрофана Егоровича. Как пришел отец Иоанн Якимовский, «жирный откормленный поп», как «дьячок сидел в почтительном отдалении и с вожделением косился на варенье и вино, коими услаждали себя поп и дьякон». Но тогда же, в последующих письмах, рассказал о поездке в Святые Горы. Упомянул «симпатичных монахов», замечательный звон колоколов в этой обители, похвалил даровую еду, которой монахи оделяли многочисленных богомольцев.
Он всегда внимательно присматривался в поездках к служителям церкви. Сохранил теплое чувство ко. Ираклию, который на Сахалине много рассказал о каторжном острове. Чехов с уважением отозвался о сахалинских священниках, которые, по его наблюдениям, «всегда держались в стороне от наказания и относились к ссыльным не как к преступникам, а как к людям, и в этом отношении проявляли больше такта и понимания своего долга, чем врачи и агрономы, которые часто вмешивались не в свое дело».
В книге «Остров Сахалин» есть краткое жизнеописание о. Симеона Казанского. Чехов написал, по сути, подлинное житие, повествование о человеке, который терпел тяготы, холод, «не жаловался, что ему тяжело живется. <…> В его время сахалинские церкви были бедно обставлены. Как-то, освящая иконостас в анивской церкви, он так выразился по поводу этой бедности: „У нас нет ни одного колокола, нет богослужебных книг, но для нас важно, что есть Господь на месте сем“». Чехов не отзывался о священнослужителях в целом, обо всех сразу. Не заблуждался на их счет. Но выделял среди них «людей долга».
Он иронизировал по поводу «идиллического», то есть отстраненного отношения к религии, и формального, сводимого лишь к исполнению обрядов, но ценил искреннее верование. После 1891 года в записных книжках появилась запись: «Между „есть Бог“ и „нет Бога“ лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец. Русский же человек знает какую-нибудь одну из двух этих крайностей, середина же между ними ему неинтересна, и он обыкновенно не знает ничего или очень мало».
Но и знание, даже самое большое, выдавало порой хорошее религиозное образование, а не обретенную веру в Бога.
Как проходил это «поле» Чехов? Почему в состоянии душевного кризиса говорил, что ко всему «оравнодушел», заметно уходил в себя. Словно внутренне отрешался от мира, созерцал его со стороны, без себя, сосредоточивался на устроении души. И в таком настроении несколько раз признавался, что охотно ушел бы в монастырь, если бы туда принимали не религиозных людей и не заставляли молиться. В 1892 году он прочел рассказ Шавровой, один из героев которого, писатель, говорил другому герою: «И помните, что Богу всякие люди нужны». Чехов уточнил: «Ну нет, брюнеты, живущие на дамский счет, Богу совсем не нужны. По существующим понятиям Бог есть выражение высшей нравственности. Ему могут быть нужны только совершенные люди».
Ставшие совершенными? Стремящиеся к совершенству? Постоянно живущие в противостоянии искушениям (власть, деньги, лесть, слава), в смирении перед испытаниями (болезни, несчастья, одиночество)?
В повестях и рассказах последних лет повторялось желание героя освободиться от обыденности, куда-то уйти, очутиться в поле. Это воображаемое бегство не казалось ни поражением, ни победой, а скорее — душевным сдвигом, скрытым страданием. В 1890 году Щеглов туманно упрекнул Чехова в том, что он грешит против нравственности и художественности, например, в «Скучной истории», в рассказе «Припадок». Чехов сердито ответил, что «нет ни низших, ни высших, ни средних нравственностей, а есть только одна». Та, что дала «во время оно Иисуса Христа». Та, которая «мешает красть, оскорблять, лгать и проч.».
И далее словно противопоставил расплывчатым словесным недомолвкам Щеглова редкое в его письмах, почти исповедальное признание. Может быть, поэтому перешел и на другую лексику: «Я же во всю мою жизнь, если верить покою своей совести, ни словом, ни делом, ни помышлением, ни в рассказах, ни в водевилях, не пожелал жены ближнего моего, ни раба его, ни вола его, ни всякого скота его, не крал, не лицемерил, не льстил сильным и не искал у них, не шантажировал и не жил на содержании».
Письмо это Чехов писал тогда в особом настроении. Он собирался на Сахалин, не исключал гибели. В таком же ключе написано через три недели письмо Лаврову: «Я не шантажировал, не писал ни пасквилей, ни доносов, не льстил, не лгал, не оскорблял…» Через пять лет, разбирая рассказ Шавровой, он, в сущности, сказал то же самое: «Также мне кажется, не дело художника бичевать людей за то, что они больны. <…> Никто не виноват <…> но автор должен быть гуманен до кончика ногтей». Это касалось сочинительства.
Что же до житейской прозы, Yo, может быть, он повторил бы языком покаянной стихиры перечисление, из того самого письма 1890 года Щеглову: «Правда, в лености житие мое иждих, без ума смеяхся, объедохся, опихся, блудил, но ведь всё это личное и всё это не лишает меня права думать, что по части нравственности я ни плюсами, ни минусами не выделяюсь из ряда обыкновенного. Ни подвигов, ни подлостей — такой же я, как большинство; грехов много, но с нравственностью мы квиты, так как за грехи я с лихвой плачу теми неудобствами, какие они влекут за собой». Это давнее признание о плате за грехи и недавнее размышление у полотен Левитана об аскетической жизни художника оказывались в созвучии. Они таили мысль о скрытой, сложной связи между образом жизни человека и его талантом. И еще что-то…
В 1895 году Чехов написал рассказ «Убийство» — историю вражды и нетерпимости, приведшей к братоубийству. Совершилось оно в доме Тереховых, прозванных Богомоловыми. Дом и трактир в нем пользовались плохой славой: «в лунные ночи, темный двор с навесом и постоянно запертые ворота своим видом вызывали чувство скуки и безотчетной тревоги, как будто в этом дворе жили колдуны или разбойники <…>».
Между тем обитали в нем люди вроде бы религиозные. Однако осуждавшие, ненавидевшие друг друга за неправильное, как казалось каждому, толкование «леригии» и богослужения. Старший брат, Яков, чтил устав, считал, что «вера должна выражаться правильно», из года в год, изо дня вдень, в известном порядке. Младший, Матвей, полагал, что важнее «порядка» жизнь по заповедям. Он корил Якова за то, что тот торговал водкой, давал деньги в рост, жил неправедно. Призывал покаяться.