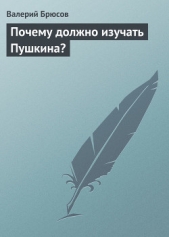Жизнь Пушкина. Том 2. 1824-1837

Жизнь Пушкина. Том 2. 1824-1837 читать книгу онлайн
Автор книги «Жизнь Пушкина», Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс (1869–1962), более сорока лет своей жизни провела вдали от России. Неудивительно поэтому, что ее книга, первый том которой вышел в свет в Париже в 1929 году, а второй – там же почти двадцать лет спустя, оказалась совершенно неизвестной в нашей стране. А между тем это, пожалуй, – наиболее полная и обстоятельная биография великого поэта. Ее отличают доскональное знание материала, изумительный русский язык (порядком подзабытый современными литературоведами) и, главное, огромная любовь к герою, любовь, которую автор передает и нам, своим читателям.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Брюллов и Пушкин сразу сошлись. Брюллов говорил: «Какой счастливец этот Пушкин, так смеется, что все кишки видны». И еще говорил он: «Пушкин как ударит словами, как молнией в кучу лохмотьев, и сразу выжжет из них чистое золото».
Брюллов прожил несколько лет в Италии, где привык к свободной европейской жизни. Он растерялся перед той подавленностью, которую нашел в России. Так не похожа была эта, незнакомая ему, Николаевская Россия на ту Александровскую, из конторой он юношей уехал в Италию. От Нащокина и Пушкина он не скрывал своих опасений.
«Брюлов сейчас от меня. Едет в ПБ скрепя сердце; боится климата и неволи, – писал Пушкин жене. – Я стараюсь его утешить и ободрить; а между тем у меня у самого душа в пятки уходит, как вспомню, что я журналист. Будучи еще порядочным человеком, я получал уж полицейские выговоры и мне говорили: «Vous avez trompé» [68], и тому подобное. Что же теперь со мною будет? Мордвинов будет на меня смотреть, как на Фаддея Булгарина и Николая Полевого, как на шпиона; чорт догадал меня родиться в России с душою и талантом! Весело, нечего сказать» (18 мая 1836 г.).
Его страхи не оправдались. «Современник» не навлек, не успел навлечь на него новых кар, но жизнь ему засорил мелкими неприятностями и волнениями. Цензурные правила были туманны и растяжимы. Права писателей и редакторов, порядок прохождения рукописей, дозволенные и недозволенные темы и мысли – все было неопределенно. Цензор действовал по своему произволу, а если ошибался, то мог так же, как и автор, попасть на гауптвахту. Все это трепало нервы, создавало технические затруднения в печатанье номера. Еще до «Современника» Пушкин, по поводу своих рукописей, подавал в Главный цензурный комитет, как он насмешливо писал, «Всеуниженное прошение», где сквозь его официальную вежливость явственно сквозят нетерпение и ирония. Он напоминал, что обычно представлял свои рукописи в Третье отделение, получал их оттуда обратно с пометкой с дозволения правительства – и отсылал рукопись в типографию. Так издал он в 1827 году «Цыган». Между 1827–1833 годами главы «Онегина». В 1829 году – «Полтаву» и два тома стихов. В 1828 году – «Руслана и Людмилу». В 1834 году – «Пугачевский бунт».
«Теперь попечитель СПБ учебного округа изустно объявил мне, что не может более позволить мне печатать моих сочинений как печатались доселе, то есть за надписью Собственной Его Величества Канцелярии. Принужден утруждать комитет всеуниженным вопросом: какую новую форму соизволит он предписать мне для представления рукописей моих в типографию?» (28 августа 1835 г.).
Год спустя в неоконченном письме к Денису Давыдову, по поводу его статьи о партизанской войне, которую цензор перечеркал красными чернилами, Пушкин сердито писал:
«Цензура дело земское, а опричники руководствуются не уставом, а своим крайним разумением… Тяжело, нечего сказать… И с одной цензурой напляшешься, каково же зависеть от целых четырех? Не знаю, чем провинились русские писатели, которые не только смирны и безответственны, но даже сами по себе следуют духу правительства. Но знаю, что никогда не были они притеснены как нынче, даже и в последнее пятилетие царствования покойного Императора, когда вся литература сделалась рукописной, благодаря Красовскому и Бирюкову. Одно спасение наше, если сам Государь успеет сие прекратить и разрешить, но и…» (май 1836 г.).
Бессильное раздражение нарастало в Пушкине. Работа его успокаивала, возвращала ему равновесие, но работа творческая. В ней он мог забыться, мог в нее уйти. Последние его стихотворения, написанные, когда он уже издавал «Современник», показывают, что не иссяк его поэтический дар. Но журналистика съедала его время, отрывала его от настоящей работы. Надо было читать чужие рукописи, самому писать заметки для журнала. В каждой блестит его ум, его неподражаемое уменье пользоваться русским языком. Не будь Пушкин так завален поденной работой, таких страниц было бы больше, у него остался бы досуг для многих художественных замыслов, осуществить которые помешала ему смерть.
Как помешала она ему наладить и литературное хозяйство «Современника». Это нельзя было сделать в один год. Пушкин не успел подобрать сотрудников, перебросить на них хоть часть работы. Ему хотелось привлечь Белинского, которого он знал по его статьям. Он поручил Нащокину подготовить это сотрудничество. Нащокин писал: «Белинский получал от Надеждина, чей журнал уже запрещен, 3 тысячи. – «Наблюдатель» предлагал ему 5. Греч тоже его звал. Теперь, если хочешь, он к твоим услугам. Я его не видал, но его друзья, и в том числе и Щепкин, говорят, что он будет очень счастлив, если придется ему на тебя работать» (октябрь 1836 г.).
К несчастью русской литературы и России, это сотрудничество не состоялось. Они даже не встретились. Но издали друг друга чувствовали. П. В. Анненков, со слов самого Белинского, сохранил несколько любопытных штрихов.
Пушкин следил за Белинским и говорил, что у него «есть чему поучиться и тем, кого он ругает».
Белинский рассказывал, что «Пушкин посылал к нему тайно книжки своего «Современника» и говорил про Белинского: «Этот чудак почему-то очень меня любит».
Тягостной стороной журналистики было также то, что из-за нее Пушкину приходилось иметь слишком много дела с чиновниками. Их тупой, мелочный, придирчивый формализм бесил, порой оскорблял Пушкина. Когда он писан Давыдову, что писатели сами по себе следуют духу правительства, он и о себе думал. В самом себе сознавал он то «здравое понимание гражданского долга», которым успел заразить своего случайного знакомца по арзрумскому походу, Юзефовича. От прежних революционных настроений Пушкин далеко отошел. Еще в 1833 году он писал: «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества».
Вяземский называл Пушкина «либеральным консерватором»: «В Пушкине, – писал он, – глубоко таилась охранительная и спасительная нравственная сила. Еще в разгаре самой заносчивой и треволненной молодости, в вихре и разливе разнородных страстей он нередко отрезвлялся и успокаивался на лоне этой спасительной силы. Эта сила – любовь к труду, потребность труда. Труд был для него святыня, купель, в которой исцелялись язвы. Когда чуял он налет вдохновения, когда принимался за работу, он успокаивался, мужал, перерождался. Эта живительная, плодотворная деятельность никогда не могла совершенно онеметь или остыть. Ни года, ни жизнь, с испытаньями своими, не могли бы ее пересилить».
Внутренняя уравновешенность Пушкина росла, углублялась, все яснее проявляясь в его политических взглядах, в его широком патриотическом подходе к истории России, к ее нуждам, причем личные обиды и притеснения на этих взглядах совершенно не отражались. Крайне показательно отношение Пушкина к нашумевшим «Философическим письмам» Чаадаева.
В письме к жене сорвались у Пушкина горькие слова: «Чорт догадал меня родиться в России с душой и талантом». Но когда Чаадаев напечатал в «Телескопе» статью, где сводил на нет всю историю России, объявлял Россию незаконнорожденной, отрицал за ней «нравственное бытие», Пушкин встал на защиту своей страны и своего народа. Чаадаев с почтением говорил о цивилизующем влиянии западного христианства, но не придал никакого значения тому, что Россия была распространительницей христианства в своих огромных, европейских и азиатских, владениях. Чаадаев преклонился перед католичеством, а русского Христа просто не заметил. Теперь, после всех свирепых уроков истории, «Философические письма» поражают предвзятостью рассуждений, слепым преклонением перед Западом. В течение почти столетия руководители русской интеллигенции видели в них образец исторической и публицистической мудрости. Между тем они дышат таким презрением к России, что их трудно читать без горечи и боли. Не удивительно, что, прочтя их, Пушкин возмутился, а Николай назвал Чаадаева сумасшедшим.