Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона
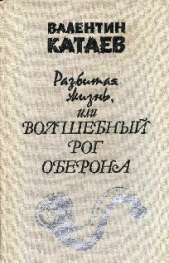
Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона читать книгу онлайн
„Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона"— книга, написанная на автобиографическом материале. Состоящая из отдельных фрагментов-воспоминаний, она объединена единым художественным замыслом и воссоздает гармонически целостную картину жизни детских лет писателя. И в этом произведении В. Катаева проявились такие особенности его стиля, как гротескность, лиризм, остроумие, наблюдательность, конкретно-чувственное восприятие мира.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
…Он действительно был красив, этот надежно, прочно отполированный желтовато-красный необыкновенный, очень дорогой комод, подаренный папе моим дедушкой — маминым папой — на свадьбу вместе с пианино, предназначавшимся для мамы как для музыкантши, учившейся после окончания епархиального училища в музыкальной школе — ныне Одесской консерватории.
У папиного комода были крепкие, хорошо врезанные стальные замки, открывавшиеся ключом, не похожим на обычные, рыночные ключи. Ключ от папиного комода был крупный, стальной, с затейливой бородкой и несколько пузатой верхней частью, похожей на греческую букву «омега».
Отпирался и запирался замок на два поворота с музыкальным щелканьем, слышным на всю квартиру. Ключ от комода папа чаще всего носил при себе, но, случалось, забывал по своей рассеянности на столе, и тогда если я оставался дома один, то для меня не было лучшего наслаждения, чем открыть папин комод для того, чтобы, отогнув столешницу, поиграть и полюбоваться вещами, хранящимися в его недрах с незапамятных времен.
…чего только не находил я в папином комоде!…
Например, складной шелковый цилиндр, так называемый «шапокляк» — непременная принадлежность жениха. В сложенном виде он представлял собою как бы одно лишь овальное дно с твердыми загнутыми полями вокруг белой атласной подкладки с золотой маркой шляпного магазина. Папа его никогда не раскрывал и не надевал, а во время венчания с мамой лишь держал в руке в сложенном виде как дань свадебной традиции того времени — обязательно быть в белом галстуке, во фраке, в белых лайковых перчатках, в шелковом черном цилиндре. Фрака у папы никогда не было, и он венчался в чьем-то чужом фраке, а белый шелковый галстук хранился в комоде. Так же, как и шапокляк, свадебный галстук удивительно хорошо сохранился; можно было бы сказать, что они были как новенькие, если бы подкладка шапокляка и галстук слегка не пожелтели от времени, вызывая у меня всегда горькую мысль, что человеческая жизнь со всеми ее радостями и праздниками, в сущности, так недолговечна и медленное постарение даже самых прочных дорогих вещей, их материальное воплощение, подвержено необратимому процессу медлительного уничтожения или, во всяком случае, превращения во что-то другое — например, в пыль, которую старые поэты любили называть прахом.
Сохранились также папины свадебные перчатки. Они лежали в комоде рядом с мамиными длинными, по локоть, белыми лайковыми перчатками. Эти перчатки тоже пожелтели, а главное, как-то ссохлись, пожухли, стали безжизненными, навсегда утратив теплоту рук, которые они некогда, в день венчания, так красиво, гладко облегали. Они даже утратили свой волнующий лайковый запах, уменьшились в объеме, и я с трудом натягивал их на свои детские руки с обкусанными ногтями и цыпками попеременно; то папины короткие, то мамины длинные. Я пытался надеть себе на шею папин галстук, но его резинка потеряла способность растягиваться.
…галстук был мертв…
Тут же в комоде хранились две венчальные свечи моих родителей с обгорелыми фитилями и восковыми слезами, застывшими на свечных стволах, увитых полоской сусального золота, потерявшего свою былую яркость, помертвевшего так же, как и золотая печатная надпись на подкладке папиного шапокляка.
Обычно вдовцы носили на пальце два обручальных кольца — одно свое, другое покойной жены. Но папа не мог этого сделать, так как мамино колечко не налезало на его палец. По-видимому, у мамы была маленькая ручка.
Я иногда вынимал из коробочки мамино обручальное колечко и легко надевал его на мизинец. Я раскрывал шапокляк легким щелчком пальцев по его дну; соскочив с каких-то скрытых стальных пружин, оно вдруг вытягивало за собой с упругим хлопаньем черную шелковую трубу, превращая плоский шапокляк в туго натянутый, блестящий, легкий — почти невесомый — цилиндр, который я надевал на свою коротко остриженную голову. Цилиндр для меня был слишком велик и садился мне на уши. Я надевал мамино обручальное колечко, но папиных перчаток не надевал, так как у них не хватало нескольких пальцев, отрезанных для лечебных целей: их надевали на порезанный палец.
Представляя себя женихом, я отправлялся в переднюю, где висело зеркало. Я любовался собой, делая разнообразные выражения лица, но на жениха походил мало, а скорее на трубочиста.
Кстати, о трубочистах.
В папином комоде я нашел новогоднюю поздравительную афишку с грубым изображением трубочиста в полной своей традиционной форме: в высоком черном цилиндре, с лесенкой за плечами, с веревкой, свернутой кольцом, на конце которой висела чугунная бомбочка для опускания ее в засорившуюся печную трубу, с куриным крылом за поясом, необходимым для выметания печной сажи.
Этот напечатанный трубочист имел очень нарядный, почти жениховский вид, хотя настоящий живой трубочист, приносивший поздравительную афишку на первый день нового года, значительно уступал своему изображению в красоте, несмотря на цилиндр и куриное крыло за кожаным поясом.
У напечатанного трубочиста было немецкое веселое лицо с закрученными усами, а у нашего живого трубочиста был довольно унылый русский вид, и он сидел на табуретке в кухне, ожидая, когда ему вынесут из комнат традиционный новогодний полтинник.
Афишка была напечатана в немецкой типографии смешанной сине-красно-черной краской и содержала поздравительное стихотворение на двух языках: слева, колонкой, по-немецки, справа по-русски. Не помню уже самого стихотворения; помню, что оно было написано короткими строчками, бойким хореем с глагольными рифмами; в нем проводилась та мысль, что пока люди спокойно спят в своих теплых постелях, трубочисты бодрствуют и с опасностью для жизни чистят печные трубы, тем самым спасая обывателей от пожара вследствие загоревшейся сажи, а все это заканчивалось поздравлением с Новым годом и просьбой не забывать своего друга — трубочиста.
По-видимому, эти традиционные афишки со стихами были завезены к нам из Германии, где еще в средние века существовала гильдия трубочистов; оттуда же к нам перекочевал и традиционный костюм трубочиста, его высокий бюргерский цилиндр, узкие брюки и остроносые ботинки.
Помню, в комоде в узком потайном ящичке хранилась засохшая веточка дикого грушевого дерева с несколькими засохшими недоразвившимися плодами. Папа рассказал мне, что эта веточка была сорвана в Пятигорске возле площадки, где был убит на дуэли Лермонтов. Мама и папа обожали Лермонтова; это была их свадебная поездка на Кавказ, и они сорвали на память о своем медовом месяце и о своем любимом поэте веточку дикой груши с места его гибели; веточка эта со временем ссохлась, стала маленькой, некрасивой, но неразвившиеся ее плоды — две крошечных груши — окаменели, так что время, казалось, не посмело их коснуться.
Рядом с «лермонтовской веточкой», завернутой в папиросную бумагу, сохранилась и другая семейная реликвия — искусственный букетик флердоранжа с восковыми каплеобразными бутонами. Во время венчания один букетик был воткнут под туманно-белой фатой в мамины черные волосы, а другой в лацкан папиного фрака.
Не без труда представлял я венчание мамы и папы где-то под Екатеринославом, в неизвестном мне Новомосковске, в походной полковой церкви, так как в это время дедушка командовал полком, а полк стоял лагерем под Новомосковском и свадьбу папы и мамы сыграли именно там.
В особенности мне трудно было представить своих будущих родителей женихом и невестой и как они стоят посередине походной, палаточной церкви, обмениваются кольцами, а потом при всех целуются.
…там были еще атласные венчальные туфельки мамы, совсем как бы еще новые, да тоже пожелтевшие от времени; но они почему-то не возбуждали во мне интереса…
Зато мамин кружевной веер доставлял мне большое удовольствие своим треском, с которым он раскрывался и закрывался, и я любил обмахиваться им, ощущая легкую струю воздуха, насыщенного еле слышными запахами маминых, не вполне до сих пор выветрившихся духов.


























