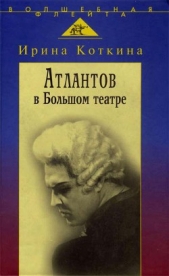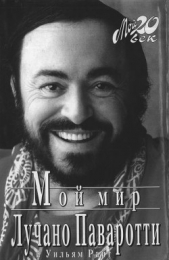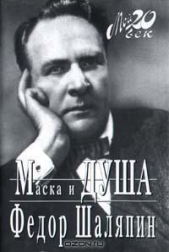Записки оперного певца
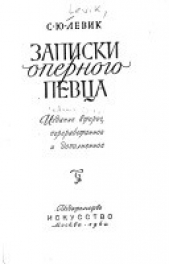
Записки оперного певца читать книгу онлайн
Сергей Юрьевич (Израиль Юлианович) Левик (16 [28] ноября 1883, Белая Церковь — 5 сентября 1967, Ленинград) — российский оперный певец-баритон, музыковед и переводчик с французского и немецкого языков.
С девяти лет жил в Бердичеве. С 1907 года обучался на Высших оперных и драматических курсах в Киеве. С 1909 года выступал на сцене — Народного дома Товарищества оперных артистов под управлением М. Кирикова и М. Циммермана (затем Н. Фигнера и А. Аксарина), Театре музыкальной драмы в Петрограде. Преподавал сценическое искусство в Ленинградской консерватории.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Успокойтесь, — говорю я ему. — Может быть, его гипнотизируют и никакого особого чуда нет. Смотрите, как его папаша с него не спускает глаз.
В это время мальчик останавливает оркестр и напевает флейтисту мелодию. Это действительно, действительно ни с чем не сравнимое явление, которого, думается мне, гипнозом не достигнешь. Я сам уж не владею собой, но сосед хватает меня за руку и шепчет:
— Ведь это же непостижимо, правда? А толпа молчит! — заканчивает он с возмущением.
— А что же ей делать? —спрашиваю я.
— На колени! — почти громко говорит он. Соседи озираются и шикают на него. Тогда он роняет голову на грудь и начинает почти спокойно слушать, время от времени поднимая глаза на чудо-мальчика и вытирая слезы.
В антракте он просит извинения за причиненное мне беспокойство и представляется: Вальтер, Виктор Григорьевич. Когда я называю свою фамилию, он быстро говорит:
— Я вас как будто узнал, но я был не в состоянии сосредоточиться, чтобы вспомнить вашу фамилию.— И тут же он перебивает себя и говорит: — Я видел его с игрушками в руках... Ведь он совсем ребенок!
Впечатлительность Вальтера меня поразила, и я назавтра
<Стр. 450>
же принялся читать его статьи и какие-то музыковедческие брошюры.
Отличный скрипач, он занимал ответственное место в балетном оркестре Мариинского театра, сотрудничал в «Русской музыкальной газете», писал спокойным хорошим языком и не проявлял ни нервности, ни романтичности. Человек и его труды не были похожи друг на друга.
В зиму 1921/22 года еще трудно было поддерживать дисциплину в театрах на должном уровне.
Но 13 февраля 1922 года произошел случай даже по тем временам из ряда вон выходящий: аккомпанируя танцам Айседоры Дункан под увертюру из «Тангейзера», оркестр сознательно то играл без диезов или бемолей, то вступал неверно и оставался «с хвостом», то, наоборот, «убегал» от дирижера. Дирижировавший Н. А. Малько, зная, что это саботаж, метался справа налево, чтобы хоть как-нибудь свести концы с концами, но поделать ничего не мог.
В качестве редактора «Вестника театра и искусств» я, действуя по поговорке «своя рука — владыка», напечатал 22 февраля под названием «Оркестранты, опомнитесь!» громовую статью, в которой были и такие фразы: «Страшно, что из художественных коллективов вы превращаетесь в скопище бунтующих дикарей»... «Опомнитесь, пока болото, в котором вы начинаете увязать, не стало вам казаться очищающей купелью» и т. д. и т. п.
И вот на следующий день меня срочно вызывают в президиум сектора Рабиса профсоюза Рабиспрос (по решению ВЦСПС профсоюзы работников искусств и работников просвещения осенью 1921 г. были слиты в Рабиспрос и существовали так месяцев восемь).
В президиуме я застаю человек десять делегатов мариинского оркестра, которые пришли выразить свое возмущение по поводу недопустимого тона моей статьи и требуют снятия меня с поста редактора «Вестника театра и искусств» или по крайней мере назначения де факто редколлегии, которая значится под газетой, но которую на деле составляю я один. Среди делегатов я вижу тех самых профессоров консерватории — «духовиков», которых я больше всего «шельмовал» в статье, и «самого» Виктора Григорьевича Вальтера. Все они — мои добрые знакомые, некоторых я считаю друзьями. Увидя столь почтенное собрание, я громко говорю: «Здравствуйте, товарищи»,— но мне почти не отвечают: кто еле-еле кивнул, кто злым
<Стр. 451>
шепотом сказал: «Еще здоровается», а один с кривой улыбкой шипит: «Здравствуйте — это так-сяк, а вот насчет «товарищи» мы еще того... посмотрим».
И начинается, так сказать, судоговорение. Как я посмел ошельмовать такой почтенный коллектив, пользующийся мировой славой? Газета рассылалась во все профессиональные организации Советской страны, и статья должна была получить соответствующий резонанс...
Минут пятнадцать длится словесное нападение. Председательствующий — скульптор В. Л. Симонов — внимательно слушает, никому не мешает, не останавливает даже тех, кто, мешая друг другу, говорят вдвоем-втроем. Я чувствую себя отвратительно и смотрю на одного только Вальтера. Он укоризненно покачивает головой, но не выговаривает ни единого слова. Тогда я глазами показываю на него Симонову. Тот Вальтера не знает, но догадывается, что меня интересует именно его мнение, а не кого-либо другого. Симонов наскоро еще раз пробегает глазами статью и по моему новому знаку обращается к Вальтеру:
«У меня к вам вопрос, товарищ». Вальтер меняется в лице и цедит сквозь зубы: «Я слушаю».
«Скажите, — спрашивает Симонов, — они действительно пропускали диезы и бемоли, как т. Левик написал?» — Вальтер молчит. Кто-то вскакивает с места, но Симонов подымает руку.
«По порядку, товарищ». Музыкант садится на место. Пауза становится томительной. Симонов повторяет вопрос.
Вальтер беспомощно озирается и, низко опустив голову, выдавливает из себя: «Правда».
Воцаряется тяжелое молчание, и секретарь секции перехватывает подымающегося для реплики музыканта.
«Собственно говоря, если правда, то и обсуждать нечего», — говорит он и, закрывая папку, встает. Делегация медленно, тяжело и обиженно молча расходится. Я задерживаю Вальтера:
— Если я говорил правду, то каким образом вы оказались в делегации?
— Я не мог им отказать, а потом... тон ваш действительно горячий, непозволительный...
— А хватать незнакомого соседа за колено оттого, что Вилли Ферреро взмахнул дирижерской палочкой, позволительно? — спрашиваю я шутя.
<Стр. 452>
Он долго смотрит на меня, с трудом вспоминая уплывшее в прошлое событие,— лицо его расплывается в улыбке.
— Ну что вы сравниваете? Там — эмоция, романтика, восхищение чудом... А здесь? А здесь нужно спокойствие...
— А возмущение — не романтика?—спрашиваю я.
И Вальтер был единственным, который не нарушил добрых со мной отношений. С другими же они восстанавливались только постепенно...
* * *
В Театре музыкальной драмы присутствие посторонних лиц на репетициях не допускалось. Исключений ни для кого не делалось, и молодой в те годы С. А. Самосуд должен был войти в соглашение с пожарным на галлерее, чтобы из отдаленного уголка прислушиваться к замечаниям М. А. Бихтера или Георга Шнеефогта во время их поучительных для начинающего дирижера корректурных занятий с оркестром.
В декабре 1912 года на последних репетициях «Мастеров пения» я заметил постороннего человека. Это было настолько необычно, что я к нему стал присматриваться.
Худощавое лицо, рыжеватая бородка, густые висячие усы, маленькие, мутноватые, типично близорукие зеленовато-голубые глазки, утомленные постоянным пенсне, черная шелковая ермолка на совершенно голом черепе, строгий, тончайшего сукна костюм, глуховатый голос, очень неявственное произношение.
Держась возле Лапицкого, этот человек вечно что-то бубнил над его ухом и очень недружелюбно поглядывал на меня, когда я проходил мимо, точно принимал мое присутствие за личное оскорбление. Раз мне даже сделалось как-то не по себе, ибо у меня и без того было скверное настроение: я шестой или седьмой день хрипел, и врачи говорили, что я еще неделю буду болеть, если не перестану репетировать. Дирижер и режиссер разрешили мне только «занимать места» и в четверть голоса подавать реплики. Мое присутствие на репетициях казалось совершенно излишним. Срок премьеры висел на волоске, так как пустить ее с дублером руководство не хотело. Моему отчаянию и так не было исхода, а неприязненный взгляд незнакомца еще усугублял мое состояние.
<Стр. 453>
Однако усиленное лечение приносит свои плоды, и я благополучно пою премьеру.
В первом же антракте появляется этот самый человек в ермолке в нашей уборной и представляется. Лицо его сияет, он без конца жмет и трясет мою руку.
«Я — Коломийцов Виктор Павлович. Я должен тысячу раз просить у вас прощения. Я очень интриговал против нас, я вас не понял и настаивал, чтобы вас не выпускали и этой ответственной партии. Какое счастье, что ни Лапицкий, ни Шнеефогт меня не послушались! А как я этого добивался!»