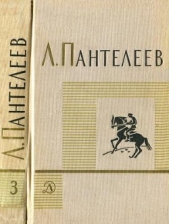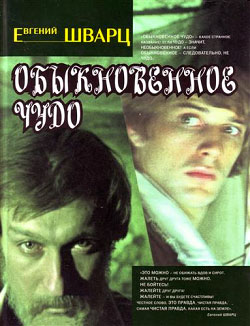Воспоминания о Евгении Шварце

Воспоминания о Евгении Шварце читать книгу онлайн
Ни один писатель не может быть равнодушен к славе. «Помню, зашел у нас со Шварцем как-то разговор о славе, — вспоминал Л. Пантелеев, — и я сказал, что никогда не искал ее, что она, вероятно, только мешала бы мне. „Ах, что ты! Что ты! — воскликнул Евгений Львович с какой-то застенчивой и вместе с тем восторженной улыбкой. — Как ты можешь так говорить! Что может быть прекраснее… Слава!!!“».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сделанное Евгением Львовичем двадцать пять лет назад сегодня уязвимо. Драматург исходит из той структуры балетных спектаклей, какая была наиболее распространена в тридцатые годы: пантомимное в своей основе действие развивалось, обогащалось и украшалось танцевальными номерами и целыми сюитами.
Два истинных героя пьесы — Кей и Герда — сохранили в балете свои достоинства и даже приобрели новые. Не буду пересказывать весь сценарий; ограничусь лишь тремя сценами, дающими представление о характере балета Шварца.
В день рождения Кея дети приходят к нему с подарками и танцуют вокруг куста роз — так начинается действие. Внезапно появляется Советник, предлагающий за куст роз деньги и игрушки.
По его знаку в комнату вбегает «человек в белой ливрее, отделанной серебром, в белой шляпе и белых перчатках. У него красный нос, усы сверкают, они покрыты инеем» [61]. Он замерз, и, чтобы согреться, все время отбивает чечетку. Но Бабушка Кея отвергает мешок с золотом, принесенный слугой. Тогда Советник вызывает четырех слуг, также отбивающих чечетку, которые приносят двух заводных белых медведей, пляшущих к удовольствию детей. Получив снова отказ, Советник приходит в бешенство и выбрасывает из ледяных глыб одну игрушку за другой, которые заполняют всю комнату, оттесняя испуганных ребят. Пляшут морские львы, перебрасываясь мячами; пляшут моржи; большие пингвины, «похожие на людей в длиннополых фраках, маршируют, покачиваясь, а между ними вьются снежинки — куклы с ничего не выражающими, неподвижными лицами», — развертывается бурная, массовая танцевальная кода. Снова отказ Кея обменять куст роз на игрушки. В гневе Советник покидает комнату.
Остроумно в балетном смысле разработано действие во дворце Короля. Начинается акт церемонией раздела имущества и дворца. Шествие — танец маляров — предваряет выход Короля, маленького человечка в очках. На Короля надевают фартук, он вооружается кистью и танцуя проводит белую черту по полу, разделяя площадь пополам, затем проводит черту и по стене, и по потолку. Вывешиваются два объявления о разделе королевства на половины короля и его дочери. Затем идет раздел живого «инвентаря»: молодые — налево, пожилые — направо, на половину короля. Делят стражу, делят дворцовый персонал — высший и низший, от министров до истопников; делят поваров и поварят с посудой. После их танцев с хоров спускается оркестр, и начинается остроумное его разделение. Первая и вторая скрипки играют прощальный дуэт, целуются на границе двух царств и расходятся, а оркестр тихо и печально аккомпанирует им.
Последний акт кажется наименее богатым. Однако, если вдуматься в его построение, выясняется привлекательная и плодотворная сквозная мысль. Через все действие проходит тема борьбы горячего сердца с ледяным бездушием. Ее экспозиция — в первом танце акта: у входа во дворец Снежной королевы Герду встречают снежинки, которые преграждают ей путь. Но стоит ей прикоснуться к снежинкам, как они тают от жара сердца Герды, пылающего любовью к Кею.
На смену красочному внешнему действию первых двух актов, изобилующих захватывающими ситуациями, поступками и пр., приходит одна сложная коллизия внутреннего действия — поединок любви и человечности с бездушием и бесчеловечностью. Поединок этот протекает психологически реально как борьба Герды за возвращение Кею памяти и человеческих чувств. Вместо разнообразных танцев предшествующих актов, в акте развязки предстает перед нами один большой танец, выражающий главное содержание акта.
Предвижу ряд вопросов: при каких обстоятельствах возник замысел? Кто предполагался в качестве композитора и постановщика? Почему проект не был реализован? Ответить на это весьма затруднительно. ( 5)
Только поиски в архивах театра, Управления культуры и расспросы друзей Евгения Львовича могут пролить свет на интересующий нас вопрос.
Недавно я встретил Ю. Н. Григоровича — главного балетмейстера Большого театра Союза ССР — и просил его припомнить детали сценария Е. Л. Шварца о царевне Несмеяне. Григорович отказался: «Все забыто и отступило на задний план перед той добротой и человечностью, которые хлынули на меня при встрече с Евгением Львовичем. Их хватило бы на весь советский балет».
Мне думается, что в этих словах кратко, но точно дана характеристика Шварца, человека и драматурга. Как жаль, что он унес с собой в могилу тайну чудесного сказочника — певца любви, дружбы и человеческой доброты. Все это — самое драгоценное, самое важное для нашего балетного театра.
Аркадий Райкин

Шварц
— Евгений Львович, я вам не помешал?
— Входите, входите. Русский писатель любит, когда ему мешают.
Дабы вы не усомнились, что он действительно только и ждет повода оторваться от письменного стола, следовал и характерно-пренебрежительный жест в сторону лежавшей на столе рукописи: невелика важность, успеется.
Однако в любом жесте и любой фразе Шварца можно было прочитать и некий второй смысл. Например: мешайте — не мешайте, а вот видите, сколько уже написано.
Спеша вам навстречу, он еще издали протягивал в приветствии обе руки. Обеими пожимал вашу. После войны руки у него стали слегка дрожать. Болезнь прогрессировала с годами, и это заметно тревожило его, хотя он и бодрился, шутил на эту тему.
— Если вдуматься, — иронизировал он, — не так уж плохо: почему-то все проходит, когда выпиваешь рюмочку коньяка. Правда, вскоре опять начинают дрожать, так что, пожалуй, коньяка не напасешься. Вот если бы столь же целебными свойствами обладал чай с молоком (излюбленный напиток Шварца), тогда бы и вообще все было замечательно. Впрочем, в жизни так не бывает.
Его беспокоило главным образом то, что почерк становится совершенно неразборчивым: прыгает перо в руке, не слушается, выписывает какие-то кренделя. И поскольку даже самые сердобольные машинистки отказываются разбирать такие каракули, постольку приходится осваивать пишущую машинку: сначала печатать самому и уж потом отдавать в перепечатку. А это ведь не просто вопрос техники. Для этого требуется психологическая перестройка, целая революция в сознании. Что в особенности неприятно, если учесть, до чего он не любит менять привычки. Да, он — консервативный человек, он предпочитает раз и навсегда заведенный порядок. Порядок и ясность — вот, в сущности, скромный его девиз. Потому что порядок и ясность — в мыслях, поступках, а также в предметах, постоянно окружающих литератора, чье имущественное положение оставляет желать лучшего, — есть жизненно необходимая замена или, как хотите называйте, иллюзия комфорта. Великая иллюзия. Потому что без комфорта — если не внешнего, то уж внутреннего всенепременно — рискуешь сам обозлиться и других обозлить. А Злоба — дама антихудожественная и антиобщественная… Да и с какой стороны ни возьми, дрожащей рукою писать неприлично и совестно. Хотя большинство наших писателей пишет именно так, и ничего, приспособились люди, не испытывают неудобства, как будто сговорились не замечать неестественность подобного состояния. Иной раз и сам пытаешься сговориться с собой: ну и пусть. В том смысле, что черное — это белое. Но боишься, что явится какой-нибудь мальчик — всегда находятся эти невинные обличители, — и заметит во всеуслышание, что рука у тебя дрожит от несмелости и твоя писанина — сплошное лукавство. Вот оно что получается: двойной страх. Вот от чего, оказывается, помогает рюмочка коньяка. Недаром же говорится: выпьем для храбрости. Но если бы всем, кто болен отсутствием храбрости, явилась идея лечиться таким сомнительным способом, многим добропорядочным гражданам пришлось бы стать хроническими алкоголиками. Это, разумеется, неприемлемо, даже противно. И выходит, что лучшего лекарства, чем правда, никто пока не изобрел.
О серьезных вещах Евгений Львович часто говорил шутя. Отталкиваясь от какого-нибудь житейского факта, который, казалось бы, совершенно не располагал к обобщениям и к интеллектуальной игре. Если бы было возможно изобразить графически движение его мысли в подобных случаях, получилось бы нечто неразборчивое, как его почерк; нечто вступающее в противоречия с идеей порядка и ясности. Но, подчеркиваю, только на первый взгляд.