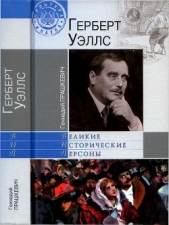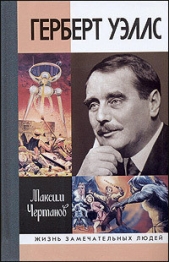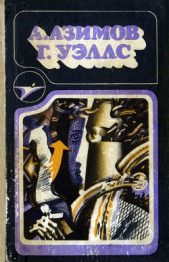Опыт автобиографии

Опыт автобиографии читать книгу онлайн
Приступая к написанию воспоминаний, автор и не подозревал, какое место в его творчестве они займут. Поначалу мемуары составили два тома. Со временем к ним добавился еще один, «Влюбленный Уэллс», — об отношениях с женщинами. В результате «Опыт» оказался одной из самых читаемых книг Уэллса, соперничая в популярности с его лучшими фантастическими романами.
В книге содержатся размышления не только над вопросами литературы. Маститый писатель предстает перед нами как социолог, философ, биолог, историк, но главное — как великая личность, великая даже в своих слабостях и недостатках. Горечь некоторых воспоминаний не «вытравляет» их мудрости и человечности.
«Опыт автобиографии» — один из важнейших литературных документов XX века.
На русском языке публикуется впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В Греции он женился на энергичной девушке, которая, работая там по заданию американской газеты, стала первой в истории военной корреспонденткой. Молодого хворого супруга она взялась ублажать с несколько даже избыточным пылом. Мортон Фруин (состоятельный отец Клер Шеридан {236}) снял для них старинный, красивый дом под названием «Брид-хаус», близ Райя, и они зажили веселой, экстравагантной и гостеприимной жизнью. Обстоятельства нашей первой встречи я успел позабыть, а вот Рождество, которое мы с Джейн праздновали у них, вспоминаю очень живо. Мы получили приглашение, к которому была приписана просьба захватить с собой как можно больше одеял и простынь, и прибыли в загруженном доверху экипаже раньше, чем успели съехаться гости из Лондона. Нам отвели комнату над главными воротами, с решеткой и совиным гнездом. И все же то была отдельная комната. Другие не получили и этого — пригласили человек тридцать, а то и сорок, а в доме было три-четыре спальни. Одна из них, впрочем, была достаточно велика. В нее поставили взятые напрокат раскладушки, назвали ее дортуаром для девиц, а на чердаке кое-как разместились мужчины. Мужья и жены спали порознь.
Вскоре выяснилось, что «удобства» восходили к XVII веку, представляли исторический интерес, а попасть туда можно было только через дортуар. Соответственно, наутро зимний пейзаж разнообразили печально бредущие кто куда фигуры приглашенных мужчин.
Но в огромных каминах полыхало пламя, а самый праздник оказался удивительно веселым, хотя виднелись и багровые всполохи надвигающейся беды. Внизу, в большой, обшитой дубовыми панелями комнате мы танцевали при свечах, установленных в подсвечники, которые Кора Крейн соорудила при помощи местного кузнеца. К несчастью, она не додумалась обезопаситься от свечного нагара, и вскоре на спинах появились заплаты из воска, вроде звезд на мундирах валлийских стрелков. В перерывах между танцами и играми мы вощили полы и репетировали пьесу, на скорую руку написанную А.-Э.-В. Мейсоном, Крейном, мною и другими гостями. Речь в ней шла о привидении, она была хаотична, изобиловала намеками, а показали мы ее в местной школе. Представление потешило и авторов и актеров. Что думали зрители, неизвестно.
Мы кутили до двух-трех часов ночи, а к полудню спускались к завтраку — яичнице с ветчиной, американскому сладкому картофелю и пиву. Крейну как-то взбрело в голову под утро обучать мужчин покеру, но мы не поддались. Выяснилось, что Мейсон знаком с моим школьным приятелем Сиднеем Боукетом и мог про него кое-что рассказать. «В любом уважающем себя салуне, — сказал Крейн, — вас бы пристрелили за эти разговоры во время покера».
Вот обстановка, в которой мне запомнился Крейн. Если бы мне хватило ума, я бы разглядел, что он измотан болезнью, но он казался мне просто скрытным и хмурым. Он был беспомощным служителем искусства, а не хозяином праздника, не хозяином дома. Он плыл по течению и — правда, с затухающим рвением — цеплялся за свое ремесло. Его легко увлекала живая работа; вкусом к точному слову он обладал безупречным — это видно по его рассказам, однако критической жилки был лишен начисто. Мы делились впечатлениями о том или ином современнике. «Великолепно!» — говорил он, или просто: «Здорово!» «А такой-то вам нравится?» — «Нет, совсем не нравится».
Я спросил его, пишет ли он что-нибудь.
Он приуныл. Линкер, литературный агент, заказал ему несколько рассказов.
«Придется писать, — сказал он, — что ж, придется».
Он познал трагическую паутину, в какую попадает профессионал. Удивлять и выражать — выражать прекрасно — он любил, это оправдывало его жизнь. Вот он и творил, не зная меры, под бдительным оком достойного Линкера, следящего за тем, чтобы «материал был вовремя готов» и не превысил нужного объема. Лучшие годы он тратил впустую.
Поздно после спектакля к нам зашла миссис Крейн. У него было легочное кровотечение, которое он пытался от нее скрыть, не хотел «никого беспокоить». Не съезжу ли я за доктором?
Велосипед в доме был, и последнее, что я запомнил из этого фантасмагорического Рождества, как на излете холодной зимней ночи, сквозь сырую мглу рассвета я качу по мокрому шоссе, в Рай.
Кризис миновал, но в наступившем, 1900 году Крейна не стало. Он делал все, чтобы скрыть симптомы болезни и умирать незаметно. Только в самом конце жена вдруг прозрела и просто потащила его в Баден-Баден. Молчаливого, понурого, стоически терпеливого, она привезла его на автомобиле в Фолкстон и, не считаясь с расходами, заказала отдельный поезд, который должен был ждать в Булони. Умер он почти сразу после того, как прибыл в Германию.
Идеал чистого служения искусству, — впрочем, с некоторыми оговорками, — олицетворяли для меня еще два известных писателя — Форд Мэдокс Хьюфер и Джозеф Конрад {237}. Первым из них — из-за изъянов его характера и неаккуратности мемуаристов — пренебрегают, последнему в истории литературы все еще отводят немного завышенное место. Настоящее имя Джозефа Конрада — Юзеф Теодор Конрад Коженёвски. Вполне разумно он расстался с фамилией и для английского читателя стал просто Джозефом Конрадом. Ему очень понравилась моя рецензия в «Сатердей ревью» на его «Каприз Олмейера». О нем еще толком не писали, и он очень хотел со мной познакомиться.
Поначалу он показался и мне, и Генри Джеймсу очень странным. Он был невелик ростом и сутул, голова словно ушла в плечи. Смуглое, удлиненное лицо заканчивалось тщательно ухоженной, остроконечной бородкой. Лоб бороздили горестные морщины; горестным был и взгляд темных глаз. В размашистых жестах виделось что-то восточное. Он напоминал Свенгали, героя Дю Морье, а благодаря морской подтянутости — капитана Кеттла, описанного Катлифом Хайном. По-английски он говорил своеобразно, хотя совсем неплохо. Речь свою (особенно если обсуждали культуру или политику) он пересыпал французскими словами. Читать по-английски он начал задолго до того, как научился говорить, и у него сложилось неправильное представление о том, как звучат многие слова. К примеру, он обнаруживал неистребимую склонность не опускать конечное непроизносимое «е». Невозможно было предугадать, верную ли грамматическую форму он выберет. Когда он говорил о мореплавании, все было безупречно, но стоило затронуть менее знакомую тему, как ему не хватало слов.
И все же английский его был на удивление живописен, щедр, богат и своеобразен, почти начисто избавлен от штампов и клише, заморские выражения и обороты чередовались с неожиданными словами, в непривычном употреблении. Наверное, именно эта тонкость, свежесть, даже экзотичность, этот «иностранный» привкус, который обычный англосаксонский ум отождествляет с культурой, помешали критикам заметить, как сентиментальны и мелодраматичны его книги. Его глубочайшая тема — элементарный ужас от чуждых мест, от джунглей, ночи, непредсказуемого моря. Конечно, как моряк, он вечно боялся что-то неправильно рассчитать, проглядеть изъяны судна, расположения груза, ненадежность команды; вместе со своей способностью удивляться он передавал и то, что путешественники, моряки, искатели приключений обычно подавляют. Другая важная его тема — раскрытая главным образом в прекрасной повести «Эми Фостер», эдакой карикатурной автобиографии, — это непреходящее ощущение себя «чужаком». Гонялся он и за призраком «чести», — например, в «Лорде Джиме». Юмор его «Негра с „Нарцисса“» довольно угрюм. Ни в одной его книге не найти ни нежности, ни истинной любви или страсти. Однако он решил, что станет великим писателем, художником слова, и, чтобы добиться признания и трофеев, неотделимых, по его мнению, от этого звания, писал с такой самоотдачей, так подчиняя себя конечной цели, что сосредоточенность Генри Джеймса меркла и казалась вялой, неполной, блеклой. Сам у себя он больше всего любил «Зеркало моря», видимо, проявляя здоровый критицизм.
В поле моего зрения он попал с Фордом Мэдоксом Хьюфером, и они остались вместе в моей памяти, несхожие и нерасторжимые. Форд был высоким блондином, говорил нараспев, походил как две капли воды на своего брата Оливера, но манерой поведения и самой личностью странным образом напоминал романиста Джорджа Мура {238}. Кто он такой и есть ли он на самом деле, не знал никто, тем более — он сам. Он стал сложной системой ролей и личин. Ум у него — удивительный, и, появившись впервые, он постарался предстать даровитым отпрыском прерафаэлитов, колеблющимся между музыкой, поэзией, критикой, прозой, земледелием в духе Торо {239} и простым наслаждением жизнью. Он уже создал прекрасные стихи, хорошие исторические романы, две-три книги вместе с Конрадом, и немало более или менее автобиографических фантазий. Как наследник прерафаэлитов, он, помимо прочего, владел тихой фермой у подножия Доуна над Хайзом. Ферма называлась Чердак, и жили на ней раньше Кристина Россетти {240} и художник Уолтер Крейн. Он сдал ее Конраду, и на письменном столе, на котором, быть может, создавался «Базар гномов», тот писал «Сердце тьмы» и «Тайного агента». Туда мы и направлялись вместе с Хьюфером на встречу с ним.