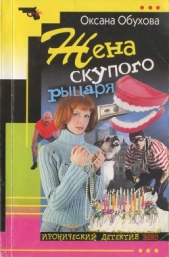За полвека. Воспоминания

За полвека. Воспоминания читать книгу онлайн
Петр Дмитриевич Боборыкин (1836-1921), создатель русского слова `интеллигент`, автор популярнейших романов: `Дельцы`, `Китай-город`, `Василий Теркин` и многих других, был `европеец не только по манерам, привычкам, образованности и близкому знакомству с заграничной жизнью, но европеец в лучшем смысле слова, служивший всю жизнь высшим идеалам общечеловеческой культуры, без национальной, племенной и религиозной исключительности. Вдумчивая отзывчивость на злобу дня... требует большой наблюдательности. И этим качеством Боборыкин обладал в высшей степени. Жизнь общества в данный момент, костюмы, характер разговоров, перемены моды, житейские вкусы, обстановка, обычаи, развлечения и повадки... русских людей у себя и за границей изображены им с занимательной точностью и подробностями`.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я нашел в тот сезон несколько типичных актеров и актрис: Сосерна, еще на молодых ролях, чету Метьюсов (мужа и жену), двух-трех комиков, молодую актрису Кэт Терри, тогда же покинувшую сцену, — сестру Элен Терри, подруги и сподвижницы Эрвинга, который тогда только что начинал.
В комедии и даже в драме у англичан чувствовалось больше простоты, чем в Париже; женщины с более естественной грацией, но по части дикции весьма малая выработка и жестикуляция бедная, так что французу или итальянцу, не знающему языка, невозможно было бы понять, что вот такой-то «jeune premier» объясняется в любви героине.
Поражало всякого иностранца то, что Шекспир находился тогда в полном забросе. В течение всего сезона при мне едва ли не на одном лишь театре (да и то третьестепенном) шел «Король Джон». Уже позднее Эрвинг стал много играть Шекспира.
Зато «зрелища» в тесном смысле и тогда уже процветали: огромные театры для феерий, блестящих балетов и кафешантанных представлений. Music-hall овладели уже и тогда Лондоном едва ли еще не больше, чем Парижем. И все, что там исполнялось — и куплеты, и танцы, — было еще ниже сортом, чем на парижских бульварах, и публика наивнее и, попросту говоря, глупее и грубее.
Та же публика наполняла по ночам тот квартал, где парила и тогда самая бесконтрольная проституция, сортом еще пониже, чем те кокотки, которые в открытых буфетах Music-hall и в антракты, и во время спектакля занимались своим промыслом.
Я уже по первому своему приезду в Лондон достаточно знал, какой характер носили уличные ночные нравы.
Ночной бульварный Париж тоже не отличался чистотой нравов, но при Второй империи женщины сидели по кафе, а те, которые ходили вверх и вниз по бульвару, находились все-таки под полицейским наблюдением, и до очень поздних часов ночи вы если и делались предметом приставаний и зазываний, то все-таки не так открыто и назойливо, как на Regent Street или Piccadilly-Circus Лондона, где вас сразу поражали с 9 часов вечера до часу ночи (когда разом все кабаки, пивные и кафе запираются) эти волны женщин, густо запружающих тротуары и стоящих на перекрестках целыми кучками, точно на какой-то бирже.
А та, настоящая биржа, куда лились все артерии Лондона и City с его еще не виданным мною движением, давала чувство матерьяльной мощи, которая, однако, не могла залечить две зияющие раны британской культуры: проституцию, главное, пролетариат, которого также нельзя было видеть в Париже в таких подавляющих размерах.
Еще в первый мой приезд Рольстон водил меня в уличку одного из самых бедных кварталов Лондона. И по иронии случая она называлась Golden Lane, то есть золотой переулок. И таких Голден-Лэнов я в сезон 1868 года видел десятки в Ost End'e, где и до сих пор роится та же непокрытая и неизлечимая нищета и заброшенность, несмотря на всевозможные виды благотворительности и обязательное призрение бедных.
А.И.Бенни говаривал мне с тихой усмешкой:
— Прекрасна конституция в Англии для тех, у кого есть золотые часы… А каково тем, у кого нет и медных?
Лондон, как синтез британской городской культуры, научил меня чувствовать все роковые контрасты мировой культуры. Нельзя было и после Парижа не видеть мощи и высоты этой культуры, но в то же время и не сознавать, до какой степени. капиталистический и сословный строй Англии тормозил еще тогда истинное равноправнее этой прославленной стране свободы.
Тогда в гостиных респектабельного общества нельзя было завести речи на некоторые жгучие темы общественной правды и справедливости. Сейчас же это называли:
— Французский социализм!
С тех пор в каких-нибудь тридцать лет и в светских салонах тон переменился, в чем я убедился еще в 1895 году, когда я ездил «прощаться» с Англией и пробыл часть летнего лондонского сезона.
Да и в 1868 году рабочее движение уже началось, приняв более спокойную и менее опасную форму «Союзов» — тред-юнионов. И тогда можно было вынести на улицу любой жгучий вопрос, устроить какой угодно митинг, произносить какие угодно спичи, громить парламент, дворянство, капиталистов, поносить даже королеву.
Но все это не пахло настоящим революционным брожением. Революция прорывалась только на почве расовой борьбы, в тогдашней Ирландии, в заговорах «фениев», по-нынешнему инородческих анархистов, врагов всего английского.
Процесс их вожаков происходил при мне в одно из моих двух первых пребываний в Лондоне. Я до сих пор довольно живо помню и фигуры подсудимых, и залу, и судей в их на наш вкус смешных париках из конского волоса.
Вот такой суд — с застывшими формами и вековой неподвижностью — всего лучше выказывал, до какой степени в Англии добро и зло переплетены в деле общей правды и справедливости. Суд — свободный и независимый; но с варварским нагромождением старых законов, с жестокими наказаниями, с виселицей; а в гражданских процессах — с возмутительной дороговизной; да и в уголовных — с такими же адскими ценами стряпчим и адвокатам.
Несколько фениев были повешены. И никто-то этим не возмущался в респектабельной печати. Вся жесткая нетерпимость англичан — даже и к расам, которые объединены под общей кличкой «Британия», — выставлялась во всей своей неприглядности.
Да и в мировой юстиции, особенно в City (где судьи из альдерманов, то есть из членов городской управы), бесплодность уголовных репрессий в мире воров и мошенников принимала на ваших глазах гомерические размеры. Когда масса так испорчена нищетой и заброшенностью, наказания, налагаемые мировыми судьями, производят трагикомическое впечатление. Я довольно насмотрелся на сцены у альдерманов и у судей других частей Лондона, чтобы быть такого именно мнения.
Свобода, то есть ограждение личных прав британского подданного, делает то, что нельзя и органам власти действовать более энергично и против злоумышленников, и против уличной проституции, и против пьянства.
Лондонские «Public-houses», то есть кабаки, и тогда уже поражали иностранца не только своим числом, но и обстановкой. Это и тогда были какие-то храмы пьянства, многие роскошно отделанные, но без всякой мебели. В этом и сказывалась двойственность всей публичной морали респектабельной Британии. Пьянство громадных размеров, развращенного вида матроны среди белого дня, драки между пьяными женщинами, нахальный уличный разврат и гнет англиканского ханжества, которое и до сей минуты не позволяет столице в 5–6 миллионов жителей иметь по воскресеньям чисто эстетические удовольствия.
И никто и в 1868 году в общелиберальной печати не поднимал похода против этого запрета. Может быть, и сюфражистки XX века, и революционные социалисты, и анархисты не могут или не хотят добиваться этого законнейшего права свободных граждан наполнять свои воскресные досуги тем, что им нравится.
А кутить за городом, в Ричмонде и других местах, объедаться и напиваться на бесконечных обедах в воскресенье — это можно! И я помню, как на таком загородном пикнике (куда я был приглашен) за столом сидели три часа, подавали, между прочим, до шести рыб и по крайней мере до двенадцати сортов разных вин!
Но нигде, как в Лондоне, нельзя было получить такой заряд всякого рода запросов и итогов по всем «проклятым» задачам культурного человечества. Все здесь было ярче, грандиознее и фатальнее, чем в Париже и где-либо в Европе, — все вопросы государства, общества, социальной борьбы, умственного и творческого роста избранного меньшинства.
За каких-нибудь три месяца в моей душе перебывало множество всяких впечатлений, идей, итогов, обобщений, проблем и дилемм, вызывающих тот или иной ответ. Только с того времени поднялся мой интерес к рабочему вопросу, к борьбе труда с капиталом. И это сделали не книжка, не чтение «Капитала» Маркса, а картины громадной нужды лондонского пролетариата, возмутительный контрас» с теми жертвами безработицы, которых я видал в лондонских доках и в трущобных переулках «Ост-Энда», вроде пресловутой Golden Lane. Такая наглядная школа — выше всего.
Подводя итоги моему сезону в Лондоне, я должен был признать, что кругозор моих идей, наблюдений, запросов расширился, даже и после Парижа, на большой масштаб.