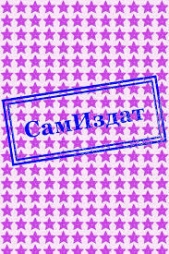Марина Цветаева. Жизнь и творчество
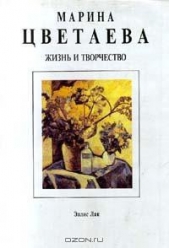
Марина Цветаева. Жизнь и творчество читать книгу онлайн
Новая книга Анны Саакянц рассказывает о личности и судьбе поэта. Эта работа не жизнеописание М. Цветаевой в чистом виде и не литературоведческая монография, хотя вбирает в себя и то и другое. Уникальные необнародованные ранее материалы, значительная часть которых получена автором от дочери Цветаевой — Ариадны Эфрон, — позволяет сделать новые открытия в творчестве великого русского поэта.
Книга является приложением к семитомному собранию сочинений М. Цветаевой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но не все, что посылала Цветаева своему молодому адресату, удерживалось на таких раскаленных Монбланах бытия. В полном чистосердечии она сообщала ему, например, о своем расхождении с Эренбургом, который, взамен "чудовищного доверия", "упирался в непонимание", то есть "все ценное в себе" считал слабостью: "все мое любимое и яростно защищаемое было для него только прощенными минусами". А в жизни, как считала Марина Ивановна, требовал "каких-то противоестественных сложностей… много людей, все в молчании, все на глазах, перекрестные любови (ни одной настоящей!)". (Мы уже упоминали несколько раньше психологический инцидент Цветаевой с Эренбургом, когда говорили о его книге "Звериное тепло".)
Из своего чешского "заточения" Цветаева яростно стремилась к общению, желала рассказать о всех сторонах своей жизни. Описывала маленькую горную деревушку, "колодец — часовней", крайнюю избу, где она живет, лес, скалу, ручьи, две лавки, костел, утопающее в цветах кладбище; подробности: "деревня не деревенская, а мещанская: старухи в платках, молодые в шляпах. В 40 лет — ведьмы".
Между строк письма угадывается отчужденность иностранца от всей этой, пусть порой и милой, идиллии. Полного одиночества, к счастью, нет, ибо Мокропсы — нечто вроде крохотной русской колонии: "…в каждом домике непременно светящееся окно в ночи: русский студент! — пишет Цветаева. — Живут приблизительно впроголодь, здесь невероятные цены, а русских никто и никогда не научит беречь деньги. В день получки — пикники, пирушки, неделю спустя — задумчивость. Студенты, в большинстве бывшие офицеры, — "молодые ветераны", как я их зову. Учатся, как никогда — в России, везде первые, даже в спорте! За редкими исключениями живут Россией, мечтой о служении ей… Жизнь не общая (все очень заняты), но дружная, в беде помогают, никаких скандалов и сплетен, большое чувство чистоты.
Это вроде поселения, так я это чувствую, — поселения, утысячеряющего вес каждого отдельного человека. Какой-то уговор жить (Дожить!) — Круговая порука".
Письма к Бахраху дают подробнейшую внутреннюю биографию поэта (лето — осень 1923 года). Мы узнаем из них, что Марина Ивановна не оставила мечты съездить в Берлин: помимо своего молодого корреспондента, она хочет увидеться с Андреем Белым, судьба которого ее тревожит, навестить Ремизова. Впрочем, она опасается берлинских общений: с Эренбургом отношения усложнились, Вишняком она возмущена. К Владиславу Ходасевичу, которого знает давно, — в данную минуту настроена недобро, о чем и оповещает Бахраха:
"…Х<одасе>вич (можете читать Хвостович!) вовсе и не человек, а маленький бесенок, змееныш, удавёныш. Он остро-зол и мелко-зол, он — оса, или ланцет, вообще что-то насекомо-медицинское, маленькая отрава — а то, что он сам себе целует руки — уже совсем мерзость, и жалобная мерзость, как прокаженный, сам роющий себе могилу".
Здесь мы неожиданно подошли к важному моменту. В этих злых строках Цветаева, под влиянием минуты, по-человечески дает выход своим эмоциям. Она не скрывает их, но притом помнит, что пишет частное письмо, и дело адресата: обнародовать его или держать в тайне (кстати, Бахрах именно этих строк и не опубликовал). Иное дело — слово, которому предстоит печатное тиснение. Мы не раз увидим в дальнейшем, как будет в этом смысле аккуратна Марина Ивановна, как, при всей бескомпромиссности, порой — резкости, она не позволит себе случайных и оскорбительных выпадов. Около трех лет спустя она выступит с критикой, но сделает это, в отличие от своих литературных современников, корректно-вежливо, хотя и презрительно. А сейчас, после слов о Ходасевиче, она спешит предупредить Бахраха, и за ее полушутливыми словами — простая истина, которую ему надлежит постичь:
"Вам, как литературному критику, т. е. предопределенному лжецу на 99 строках из 100, нужно быть и терпимей, и бесстрастней, и справедливей".
Цветаева рассказывает Бахраху о своем отношении к поэтам-современникам. С любовью упоминает Андрея Белого. О Пастернаке пишет: "Мой единственный брат в поэзии!" И дальше: "Из поэтов (растущих) люблю Пастернака, Мандельштама и Маяковского (прежнего, — но авось опять подрастет!). И еще, совсем по-другому уже, Ахматову и Блока. (Клочья сердца)".
Все это читаем в ее июльских письмах. Ответов на них Марина Ивановна не получает (возможно, они не дошли). Она охвачена тревогой и обидой; в ее душе нагнетаются, раскаляются смутные, обжигающие чувства. "Тайный жар", — очередной пожар души.
Смертельный удар радости — письмо; смертельная (по силе) надежда на письмо. А дальше — что? Счастье? Нет, ибо здесь, "в мире мер", счастье немыслимо, невозможно… Знаменитое стихотворение, без которого не обходится ни один цветаевский сборник и ни один исследователь, желающий продемонстрировать уникальное цветаевское созвучие смыслов:
Пройти, уйти из жизни, измеряемой временем, ибо бессмертие поэта и прокрустово ложе его земного существования — несовместимые вещи: "О как я рвусь тот мир оставить, Где маятники душу рвут, Где вечностью моею правит Разминовение минут".