Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург
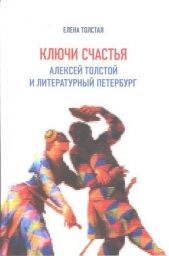
Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург читать книгу онлайн
Настоящее исследование Е. Толстой «Ключи счастья» посвящено малоизвестному раннему периоду творческой биографии Алексея Николаевича Толстого, оказавшему глубокое влияние на все его последующее творчество. Это годы, проведенные в Париже и Петербурге, в общении с Гумилевым, Волошиным, Кузминым, это участие в театральных экспериментах Мейерхольда, в журнале «Аполлон», в работе артистического кабаре «Бродячая собака». В книге также рассматриваются сюжеты и ситуации, связанные с женой Толстого в 1907–1914 годах — художницей-авангардисткой Софьей Дымшиц. Автор вводит в научный обиход целый ряд неизвестных рукописных материалов и записей устных бесед.
Елена Д. Толстая — профессор Иерусалимского университета, автор монографий о Чехове «Поэтика раздражения» (1994, 2002) и Алексее Толстом — «Деготь или мед: Алексей Толстой как неизвестный писатель. 1917–1923» (2006), а также сборника «Мирпослеконца. Работы о русской литературе XX века», включающего цикл ее статей об Андрее Платонове.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
У Н. Я. Симонович-Ефимовой в концепции ее замечательной книги также проводится контраст Петрушки, этого «гениального неудачника в семье кукол», и «хорошенькой марионетки» с ее романтической и символистской высококультурной генеалогией. А Петрушка «всегда был такой: попал в дурную компанию» (Симонович-Ефимова 1925: 51).
Нисхождение без преображения
С самого начала сказки Толстого имя Буратино подсвечивается обещанием будущего счастья, как и имя «Пиноккио» у Коллоди. Только, в отличие от Коллоди, у Толстого это обещание отнюдь не иронично: действует тут логика совсем других фольклорных пластов. У Коллоди Пиноккио вознагражден за любовь к Фее и верность ей в беде. А Буратино — «дурачина», новый Иванушка-дурачок «с коротенькими мыслями» — не зря стал в России народным любимцем: по русским сказочным законам именно дурак не может не найти счастья, он побеждает именно своей глупостью и ничтожеством, которые на деле оказываются нетрадиционным или парадоксальным поведением, «ходом вбок» — и приносят успех. На наш взгляд, это, а не что иное, и есть пресловутый «фольклоризм Толстого». И действительно, в беде героя спасает и почему-то (несмотря на неправильное по законам сказки этическое поведение, отмеченное Липовецким в статье «Утопия свободной марионетки» — Липовецкий 2008) берет под свою опеку «низший мир». Черепаха не за его заслуги — таковых попросту нет, — а просто из солидарности в ненависти к их общему обидчику дарит Буратино талисман, как когда-то лирическому герою Толстого дарила Золотая медведица, которая, как мы помним, была заместительницей или метаморфозой матери. Тут вспоминается, что и домашняя сказка о мальчике, спасенном лягушками и превратившемся в лягушонка, досталась ему от матери. Только тогда, после своего болотного кенозиса, Буратино вдруг оказывается носителем храбрости и верности, качеств, которые обеспечивают победу фольклорному Ивану-дураку, младшему сыну и т. п.
Пиноккио может сбросить «бураттино», то есть чурбан, «болвана», «внешнего человека», только тогда, когда он обеспечивает чудесное спасение обоих своих названных родителей: чтобы «вочеловечиться», стать «сыном человеческим», он должен их как бы сам себе «родить». Ведет его сквозь все пагубы любовь — любовь прежде всего не к отцу, а к многоликому и единому женскому персонажу, Фее (Волшебнице у Петровской — Толстого), выступающей в обликах то хорошенькой девочки, то доброй девушки, то прекрасной дамы — и даже голубой козочки и чудесной улитки.
Буратино тоже благодарен отцу, но все же мир его — это мир безлюбья, любовь выглядит в нем смешно и глупо. Но зато он хороший товарищ: именно он способен оказать реальную помощь гонимым друзьям, а впоследствии и старику-отцу.
На современный взгляд, в своем сравнении двух марионеток Мирон Петровский не слишком отступил от традиционных в советской критике предпочтений, сводя снятие задачи очеловечивания у Толстого к тому, что герой Толстого «и так» живой мальчишка, и объясняя снятие задачи труда отказом Толстого от буржуазной морали.
На деле отмена необходимости очеловечивания у Толстого становится возможной потому, что счастье, которое находит Буратино, особенное: оно позволяет ему стать себе господином, нравственно не меняясь. Правда, достигалось это счастье длинным рядом испытаний. Последнее такое испытание — спуск по темной и крутой лестнице в подземелье. Там кукол ожидала не мрачная пещера в толще земли, а непостижимо как освещенная закатным солнцем комната, в которой стоял «чудной красоты кукольный театр».
В начале сказки Буратино вызывает взрыв всеобщего энтузиазма, попав в театр кукол: марионетки раскрывают ему глаза на то, кто он такой. Теперь же, в качестве венца всех усилий, он получает театр в свою власть. Происходит как бы повторная, усиленная, удвоенная самоидентификация: кукла «находит себя» в том, что она кукла, актер, она как бы обрамляется двойною рамкой, играя самое себя, и на этом волшебном пути обретает свободу действий.
Самореализация происходит не на выходе из мира условностей в мир имманентных ценностей, как в «Пиноккио», а в создании условности второго порядка и господстве над нею — это решение романтическое и символистское, именно в нем новизна сказки, а не только в чисто авантюрном депсихологизированном сюжете.
Липовецкий видит особенность «Золотого ключика» в том, что Толстой, вынужденный примирять невозможные противоречия, начиная с главного: «свобода» — «марионетки», следует моделям не сказки, а мифа в левистроссовском смысле. Сюжет развивается через модель мифологической медиации, то есть путем постепенного сближения противоположностей. Оно происходит в деятельности медиатора — это трикстер, то есть клоун, шалун, нарушитель правил и границ. Именно в этой роли, по Липовецкому, и выступает Буратино (Липовецкий 2008: 136–138). Однако в отличие от архаического трикстера «аморальный» Панч-Петрушка все же подлежит моральному суду. Буратино еще менее архаичен. Автор отказывается от осуждения кукольного героя за дурные поступки, потому что в новой прозе, которая пишется с начала 20-х, такого осуждения вообще не может быть по эстетическим причинам: авторская позиция и авторская мораль реализуется в сюжете. Но этот сюжет у Толстого вовсе не архаичен в леви-строссовском смысле. Герой проходит путь, в конце которого — все-таки не только победа над врагами, но и спасение гонимых и (что нам более важно) обретение самого себя и господство над собой. Все это ценности достаточно новые. А учитывая контекст XX века, сюжет можно прочесть и так: герой возвращается к себе, найдя ключ к тем глубинам, на которых залегает счастье подлинного творчества, которое всем приносит освобождение.
Конечно, здесь, как и в любой романтической сказке, присутствует квест, сохраняющий генетическое родство с архаическим ритуалом инициации. Этапы сюжета Толстого, как и у Коллоди, повторяют старинную схему — это прохождение через огонь, воду, чрево хтонического чудовища, временная смерть.
Подобно Коллоди, давшему своему Burattinaio, петрушечнику по имени Манджафоко («огнеглотатель») печеобразный рот и гомерическое чихание вечно простуженного повара, Толстой тоже подчеркивает огненную природу Карабаса Барабаса. Но водяной сюжет Коллоди с пребыванием во чреве рыбы для 1935 года невозможен как чересчур библейский, «поповский». Поэтому водяной эпизод реализован мягко: как погружение Буратино в пруд с пиявками; в роли хтонического чудовища оказывается черепаха Тортила, приносящая заветный ключик в пасти. На временную смерть и воскресение и без того уже указывают и эпизод повешения, и проход через подземелье.
Эпоха же диктует и выбор пути: у Пиноккио это путь труда, а для Буратино — путь борьбы и победы. Именно поэтому добрый парень Манджафоко раздваивается на лютого антагониста Карабаса Барабаса и его прихвостня, «водяного» Дуремара (восходящего к зеленому рыбаку-водяному из Коллоди): для борьбы нужны враги, которых нет у Пиноккио.
Скромный петрушечник превращается в «директора театра», как бы в знак воспоминания о страданиях гофмановского Директора театров, а титулом «доктора кукольных наук» его Толстой удостаивает, как заметил Петровский, в память о Мейерхольде — взявшем псевдонимом имя зловещего доктора Дапертутто из другой новеллы Гофмана.
К вопросу о новом герое
1 июня 1922 года в Берлине, на вечере, озаглавленном есенинской строкой «Мне хочется вам нежное сказать», который «Накануне» устроило в честь прибытия в Берлин советских поэтов Сергея Есенина и Александра Кусикова, Толстой приветствовал гостей, подчеркивая их непривычность, инородность в традиционном составе русской литературы; скептический сотрудник правого «Руля» описал происходившее так:
А. Толстой в своем вступительном слове указал на то, что перед публикой продефилируют сейчас хулиганы, каторжники, подлецы, бесшабашные люди и т. п. Ассортимент этих ласкательных эпитетов Толстого по адресу своих сотоварищей по выступлению мог бы быть еще значительно продолжен. Несмотря на это, Толстой, однако, указал, что их необходимо принимать такими, какие они есть, потому что они — талантливые люди. Их дает нам такими современная Россия, в которой, по выражению Толстого, людям вспарывают живот, конец кишки прибивают к дереву, а затем гоняют вокруг этого дерева. Русские поэты, музыканты, художники не могут отделиться от современной русской жизни, а она — в достаточной мере безобразная (Л-р 1922).


























