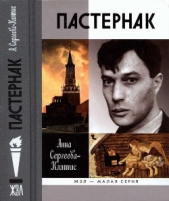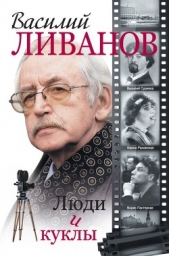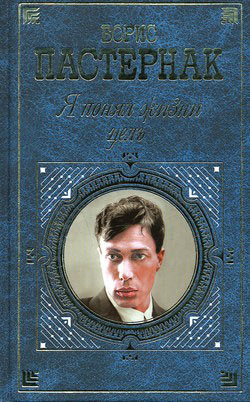Годы с Пастернаком и без него

Годы с Пастернаком и без него читать книгу онлайн
Свою книгу «Годы с Борисом Пастернаком» Ольга Ивинская завершает словами: «Любимый мой! Вот я кончаю работу, завещанную тобой. Прости меня, что написала ТАК; я не могла и никогда не смогла бы написать на уровне, которого ты достоин… Большая часть прожитой сознательной жизни была посвящена тебе, как будет посвящен и ее остаток…»
В этой книге впервые объединены мемуары О. Ивинской (в сокращенном виде) и ее дочери И. Емельяновой о Борисе Пастернаке. В книгу также вошли воспоминания Ирины Емельяновой об Ариадне Эфрон, о Варламе Шаламове. Впервые публикуются эссе «Парижские этюды» И. Емельяновой и фрагменты из ее «Записных книжек».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Потом пили кофе. Она сказала, что очень просто: однако почему-то два чайника, носик одного завязывается марлей, потом содержимое выливается через фильтр во второй, снова греется — какой-то патологический перфекционизм. Анюта явно страдала. Потом разболтались. Сначала о войне. В первые дни Париж бомбили, по ночам сирены, и их дом на улице Лакурб был обстрелян. Пришлось переехать сюда, на улицу Сен-Санс. Было голодно, но зато очень «сплоченно». Всю войну оставались в Париже, был комендантский час, но для артистов выдавали специальное разрешение на ночные хождения. И Шарль Мюнш приезжал на велосипеде, жарили пирожки, Петя играл на рояле (где он теперь, этот рояль? Вместо него — телевизор), оставались ночевать. Этих домов — она подводит нас к окну, видны многоэтажные новые дома, довольно элегантные, — не было, прямо через сквер можно было пройти к Эйфелевой башне, в войну был пустырь, кошки, «а теперь, душка, я туда не хожу — такой попюласьон!»
Говорим о мужьях и поклонниках. Петя легко плакал. Отца своего ненавидел. «За богатство!» Ухаживали многие. Борис Лосский делал предложение. Но были они, Лосские, невыразимо скучны. И эта их церковность. Они как-то «метались» в церкви на пол. Хотя был очень образован, прекрасно знал французскую архитектуру, потом много лет был хранителем музея в Туре.
«Папа был сначала удивлен нашим браком. Может быть, он думал об Ирине. Ирина была очень красива. Но Петя сказал как-то: „Зачем жемчужина, когда есть брильянт“. Папа уехал в 1928 году в Литву. Он обожал литовцев. Быстро выучил литовский, лекции по-литовски читал».
Ведет нас в свою спальню. Аскетическую. В головах маленькая иконка — Серафим Саровский с медведем. На столе — замечательная фотография отца с папиросой, кольца дыма, худое прекрасное лицо. Кровать застелена каким-то солдатским одеялом, просто койка какая-то. «Это я его фотографировала. Кажется, в Каунасе, в его кабинете… Я ведь тоже туда ездила несколько раз, до войны. Прислуга была польская, целовали „в плечико“».
В коридоре на низком шкафу (в котором хранится почему-то посуда, а не обувь) два фаянсовых китчевых льва и две круглые странные головы, как грибы. Это телеграфные чашечки, Пете нравились.
Анюта конечно же заводит разговор о Марине и Але. «Страшно неприветливая, мрачная. Неулыбчивая. Ногой топала. Аля меня не любила: „У Марьяны глаза злые-злые!“ Но мы виделись редко. Летом, в Понтайяке, когда папа приезжал, и Марина была со своим сыном, невероятно избалованным».
Показывает замечательный альбом времен Понтайяка — она увлекалась фотографией и наснимала целую серию групповых фото отдыхавших в те годы на этом побережье.
Анюта вцепилась в альбом, просит дать ей переснять для ее книжки. Марьяна охотно отдает его «Анечке». И письмо, знаменитое письмо Марины Ивановны (несправедливое!) Карсавину, якобы неодобрительно упомянувшему еврейство Эфрона, охотно дает переписать для той же книги.
Вместе выходим, садимся в метро, отвоевываем для Марьяны место в переполненном вагоне. Мы едем домой, у нас сегодня гости, будет «бал», а она — в какой-то русский магазин за вечными пирожками.
1988 год. Конец мая. Париж, Сорбонна.
Сижу на экзамене, группа моя пишет, человек двадцать набежало. Выдали преподавателям для записей на экзаменах роскошные книжки, надо чем-нибудь ее заполнить, чтобы книжка не зияла пустотой, а также для того, «чтобы оправдать свое назначение человека», как писал Андрей Платонов.
За окнами — мягкая, нежная, но уже и пышная парижская весна. Платаны, старше и красивей которых, по-моему, нет нигде в Париже, раскачивают свои свечки. Ведь всего каких-нибудь триста лет назад здесь были глухие дубравы, и Людовик XIII охотился на оленей, и те деревья, что теперь смотрят в высокие (увы, давно не мытые), от пола до потолка, окна нашего Гран-Пале, наверное, цеплялись еще своими ветками за королевские шляпы. А теперь вылезают на поверхность их связанные в узлы корни, обнажаются, как у старых зубов, и показывают сплетения какой-то архаической красоты. Как Валери (в замечательном переводе Вадика) писал об этом: «Ты можешь, девственность, расти, но не сорвать УЗЛЫ СТОЯНКИ ВЕЧНОЙ»… «Девственность» — это о весенней листве, что за окном.
…А что же наша студенческая девственность? Вот они, склонились над своими «копи», стараются, бутылочки с водой выставили, пишут изложение и сочинение, чтобы получить потом свои «мансьоны», исчисленные аж в тысячных долях дробей. Такая тут во Франции загадочно-сложная система оценок, что я уже заранее дрожу перед завтрашним подсчетом разных коэффициентов (считаю плохо, в столбик), как будет мадам Одресси сурово меня поправлять. Эта группа, как, впрочем, и другие, — в основном девочки плюс три дамы-вольнослушательницы и два мальчика — Седрик и Лоик, скорее всего бретонцы. Когда мы начинаем курс, я каждый раз их спрашиваю: «Что вас привело на русское отделение, почему вы решили изучать русский язык?» Ответ почти всегда один: «J’adore Tchekhov», «Мы любим Чекоф». Ох, этот вечный русский идол, в чем его тайна? Правда, в этом году Лоик, который поет в каком-то ансамбле, сказал, что он любит Окуджаву.
На доске моей рукой начертано:
1. Изложение. «Груша» (по Ф. Искандеру).
2. Сочинение. На чьей вы стороне в конфликте Стрекозы и Муравья?
Изложение я им уже прочитала (два раза), милый комизм текста они, конечно, не уловят, но хоть бы содержание со всеми нужными глаголами, которые мы «прошли», пересказали! Как УПАЛА с дерева груша, как маленький Искандер ее ПОДНЯЛ, как хотел СЪЕСТЬ, но воспитательница ОТНЯЛА, СКАЗАЛА, что «груша пойдет в общий компот», а потом сама УНЕСЛА домой в сумке, и маленький Искандер ЗАПЛАКАЛ. Если бы только знали методисты в институте русского языка, готовящие все эти «сборники изложений», как трудно из этих сборников что-нибудь извлечь, насколько неприменимы все эти Паустовские, Чарушины, Мамины-Сибиряки для понимания на слух (я уж не говорю о классических «Как пионеры помогали убирать кукурузу»)! А вот если отбросить разные застрехи, дровни, свясла, переметы и прочее, то нет для этого дела лучше «русских книг для чтения» Толстого; гений — он гений во всем.
Красавица Селин («Селиночка», как она просит ее называть) все про грушу поняла с первого раза, заулыбалась и, склонив набок белокурую головку, исписывает идеальным своим почерком вторую страницу. Бывают же такие природы совершенства! И на скрипке играет. Интересно, что она напишет про Муравья…
Когда разбирали эту басню на уроке, выписывали столбиком синонимы: какой муравей (трудолюбивый, жадный, одинокий, плохой товарищ…) и какая стрекоза (несчастная, легкомысленная, беззаботная, талантливая певица…), — Селиночка добавила: «Муравей — пре-ду-смот-ри-тельный! А стрекоза — ветреная!» Каково? Я, как могла, старалась отвлечь их от стереотипа, подвести к мысли, что и стрекоза не без пользы, что народ должен кормить своих поэтов: «Вот вы, Селин, играете на скрипке, а у вашего брата гараж… Неужели он вам не поможет?» — «Но стрекоза же хотела у него поселиться (s’installer)!»
Моему просвещению мешает и то, что по-французски оба персонажа — женского рода: Муравьиха и Стрекоза. Поэтому не работает акцент на отсутствие мужского благородства, бескорыстного рыцарства, джентльменства. Так что вряд ли я их убедила…
Все, надо кончать, Селиночка складывает свои ручки и типексы в пенал, сейчас принесет свою «копи». Беспокоит меня «груша пойдет…» — не написали бы «груша побежит…».
Вечером того же дня.
Возвращалась домой через Муфтар — прелестная улочка, где-то поблизости и Верлен жил. Ходил и в церковь святого Медара (он вроде нашего Пантелеймона — целитель) на углу площади, и на «летучий», как говорят французы, рынок — господи, чего там только нет! «Летучий» — потому что в восемь вечера уже прилавки убраны, железные жалюзи опущены, бегут помойные струйки, пахнет сырой рыбой и зазывалы перед греческими ресторанчиками уже машут руками… Но в пять, когда я шла, — кипучая жизнь, в палисаднике около церкви (бывшее кладбище янсенистов, где происходили чудеса и сползались увечные со всей Франции; его, как Каганович наше Дорогомиловское, Луи XV приказал сровнять с землей, закатать под сквер, дабы ересь искоренить) полно малышей с мамашами, у разборных прилавков кричат арабы, навязывая огромную (но невкусную) клубнику, и крутятся на шампурах пресловутые индейки и поросята. Невозможно после голодной Москвы привыкнуть к этому изобилию. Но и от своих советских (русских?) предпочтений трудно избавиться — кроме как на котлеты (и Вадик, и Андрюшка любят!) и печенку с луком, фантазии не хватает. Особенно поражает меня на рынках отдел triperie (потроха всякие): заливной поросячий хвостик, фаршированный пятачок, шашлык из гениталий куропатки, ris — я долго думала, что это «рис», однако оказалось, что это какие-то особенные железы телячьи, и слова-то такого по-русски нет. К месту вспомнила недавно опубликованный в «Огоньке» (тоже веянье гласности!) столь почитаемый нами в шестидесятые годы рассказ Солженицына «Матренин двор», где идеалом нравственности изображалась бесхозяйственная Матрена, которая из живности держала хромоногую кошку, а не противного, жирного, пошлого поросенка! И в конце просто страстная диатриба против этого хрюкающего чудовища бездуховности, символа приземленной алчности, одним словом «живота», а не души — поросенка! А тут вам на Муфтаре — фаршированный хвостик! «Все пойдет в общий (национальный!) компот!» Вот и дожили с такими пророками до того, что мама пишет в письме: «Ирка, хоть перед смертью хочу поесть настоящего швейцарского сыра!» А подруга Диты пишет из Питера: «Пришли хоть какой-нибудь еды!»