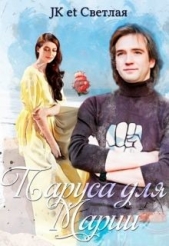Хранить вечно

Хранить вечно читать книгу онлайн
Эта книга патриарха русской культуры XX века – замечательного писателя, общественного деятеля и правозащитника, литературоведа и германиста Льва Копелева (1912 – 1997). Участник Великой Отечественной войны, он десять лет был «насельником» ГУЛАГа «за пропаганду буржуазного гуманизма» и якобы сочувствие к врагу. Долгое время лучший друг и прототип одного из центральных персонажей романа Солженицына «В круге первом», – с 1980 года, лишенный советского гражданства, Лев Копелев жил в Германии, где и умер. Предлагаемое читателю повествование является частью автобиографической трилогии. Книга «Хранить вечно» впервые издана за рубежом в 1976 и 1978 гг., а затем в СССР в 1990 г.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Адвокат задал Белкину несколько вопросов. Отвечая на них, он говорил так, как говорят на защите диссертации, чтобы «поднять повыше соискателя», все больше о необычайной политической зрелости моей идеологии, о глубоких знаниях, многократно выраженных в лекциях, статьях и т.д.
Последним свидетелем был Виктор Розенцвейг. Он по плану адвоката представлял Всесоюзное Общество Культурных связей с заграницей. Он рассказал о том, как меня любят и уважают немецкие пролетарские писатели Бредель и Вайнерт и какой я образованный марксист-ленинец-сталинец, это ему точно известно по совместной педагогической работе в ИФЛИ, по отзывам моих слушателей, из многих дружеских бесед…
Уже давно стемнело. Заседание шло с утра, обеденный перерыв продолжался не больше двух часов.
Адвокат в перерыве сказал мне, что, по его мнению, все идет хорошо. То, что прокуратура не представлена, – тоже хороший признак. Он начал речь уверенно; сказал, что ознакомился с делом, которое считает весьма необычным, можно сказать, единственным в его практике, перечислил все явные противоречия в показаниях свидетелей обвинения, а потом заговорил все более громко, с привычно наигранным пафосом наигранной растроганностью и выразительными гневными раскатами. Мне было стыдно, и раздражало то, как он выхваливал меня искусственными, пустыми словами о «тонкой нервной конституции», о «впечатлительности творческой личности», о «высоком душевном строе коммуниста-интеллигента». Потряхивая старыми номерами «Учительской газеты» и «Красной звезды» с моими статьями, он восклицал: «Вот его блестящие остроидейные выступления на страницах „Правды“ – центрального органа нашей партии». Он картинно откидывал седые волосы и, растроганно придыхая, декламировал о горе родителей, у которых один сын погиб в бою, а единственный оставшийся, надежда и гордость, в тюрьме по тягчайшему, позорному обвинению и все из-за клеветников, полуграмотных невежд… О Забаштанском он почему-то забыл, но тем сильнее поносил Беляева и особенно Георгия Г. Он заметил, что именно они вызвали наибольшее недовольство судьи. Георгий обиделся, даже закричал что-то с места. И судья отчитал его за неуменье себя вести.
Наконец последнее слово подсудимого. Сколько раз я его сочинял про себя, повторял, дополнял. Говорил я долго и видел, чувствовал, что слушают. Судьи были всего в трехчетырех шагах от меня. Председатель сидел, наклонив голову, только изредка поблескивал очками, а оба заседателя все время смотрели на меня, и я старался заглянуть им в глаза поглубже, внедрить в них и правду, и мою боль.
Кончил я фразами, которые составлял давно и не раз повторял в жалобах.
– Совесть моя чиста. Нет на мне и тени вины перед Родиной, перед партией. Никакой вины ни в поступках, ни в словах, ни в самых сокровенных мыслях. И я прошу не милости, а справедливости. Только справедливости.
После этого суд совещался. Ввиду того, что заседание происходило в необычном помещении, удалились не судьи, а все прочие. Меня увели в подвал. Мама и Надя стояли в коридоре, улыбались и кивали.
Часа через полтора привели обратно. Вошли и свидетели. Судья читал стоя, и мы все стояли: «Именем Союза Советских Социалистических Республик…»
Уже с первых фраз я услышал одобрительные слова о себе, потом главное: «Оправдать за полным отсутствием состава преступления. Из-под стражи освободить». И частное определение: Забаштанский и Беляев виновны в клевете, но ввиду амнистии 1945 года не подлежат судебной ответственности. «Обратить внимание партийных организаций».
Все вокруг плыло в тумане, в этакой розовато-оранжевой дымке с блестками. Конвоиры посадили меня в коридоре, отгородив большой скамьей. Было поздно, из опустевшего подвала увели охрану. Друзья кивали издали, говорили что-то веселое, поздравляли. Мама повторяла громко: «Твое пальто и костюм у Лели, пойдешь прямо к ней, у нее новый адрес: Новослободская, 48, во дворе, квартира 47, запомни!»
Конвоиры не разрешили никому подойти ко мне и отказались передать плитку шоколада, как ни упрашивала мама. «Не положено. Передачи только через тюрьму».
Потом меня увезли одного в большом воронке. Я не позволял себе надеяться, что скоро освободят. Я знал, что оправдательные приговоры по 58-й статье обязательно проверяются, знал, что нередко оправданных трибуналом передают в ОСО и они получают сроки заочно. Но такой приговор! Такое оправдание!
В Бутырках провели в бокс, где постепенно собралось еще восемь человек с вещами. У четверых кончился срок, двоих оправдали. Одному следователь накануне сказал, что освободит. Это был молодой парень, сын генерала, арестованный за то, что носил отцовский пистолет и несколько раз показывал приятелям.
Вызывали поодиночке. К дверям бокса подходил дежурный с помощником, который нес пачку довольно плотных тюремных дел. Вызываемый отвечал на несколько вопросов и кроме обычных: фамилия, имя, отчество, статья, срок – должен был назвать еще и место и дату рождения, адрес членов семьи… Сначала вызывали без вещей – получать изъятое ранее имущество: ремни, карандаши, документы, шнурки от ботинок, бритвы, деньги, проверяли отпечатки пальцев, а в заключение на беседу, где освобождаемый, давал подписку о неразглашении режима и получал справку об освобождении.
В боксе то и дело открывалась дверь, и каждый раз у меня холодело внутри – вот сейчас назовут. Я пытался на глаз определить число папок, остающихся в руках у помощника, сбивался в счете, отчаивался и снова надеялся. Приказывал себе успокоиться, курил папиросы одну за другой, они казались очень короткими, необычайно быстро сгорали. Голова болела, даже тусклая лампочка слепила, горели глаза. И под ребрами слева копошилась боль, то сворачиваясь вкрадчиво, то располагаясь по груди, к ключице, к горлу, по руке…
Потом я остался один. Последним увели генеральского сына, должно быть, поэтому его я и запомнил. Когда его вызвали, у дежурного в руках была одна папка. Он ответил на мой взгляд, видно, очень уж умоляющий:
– А вы подождите, еще не оформили документов. Как ваша фамилия?… Нет, еще не оформили.
Опять всплеснула надежда. Значит, все же оформляют. Напряженно прислушивался к шагам и голосам. Прошел час или два, я даже поспал на полу – скамья была слишком узкой. То и дело просыпался от ближних шагов, от ползучего холода. Подтыкал полы бушлата.
Звяканье ключа разбудило мгновенно. Поверка. Смена дежурных. Значит, уже утро. Спрашиваю: как же так, я оправдан, приговор – освободить. Сколько ждать?
– Документы еще не оформили. Дежурные были заняты поверочными расчетами. Торопились.
Потом меня перевели в другой, деревянный бокс. Надежда – послышалось, где-то невдалеке назвали мою фамилию – и решимость спокойно ждать, может быть, еще несколько дней – сменялись тоскливыми сомнениями и страхом: теперь будет ОСО, а там не вызывают ни свидетелей, ни адвокатов.
Весь день я провел в сидячем боксе. Туда принесли обед и вечернюю кашу и передачу: сигареты «Друг», шоколад, мамины ватрушки, жареную телятину. В тесноте бокса-пенала есть было трудно, локти сжимало дощатыми стенками. Но я радовался, что не увозят с «вокзала», значит, все же оформляют документы. Курил и спал прерывисто; вспоминал суд и снова и снова передумывал, что было раньше, когда все началось, как мог бы избежать, если бы говорил так, а не эдак, с тем, а не с этим, если б уехал от Беляева, если б ранило тяжелее. Как входил бы в Берлин и как приеду теперь, кого буду искать из бывших друзей и знакомых, что буду делать в Москве, как приду к Леле, а потом домой…
После вечерней поверки стал опять напряженно прислушиваться к шагам и голосам. В обычных шумах бутырского «вокзала», в топотании и гудении этапов, в разных походках, в редких криках или истерических взвизгах и в постоянных сигналах – побрякивании ключей – пытался услышать голоса тех, кто поведет меня на свободу.
Один из вахтеров, выводивших в уборную, сказал, что днем не освобождают, а только к концу ночи, и я на несколько часов обнадеженно успокоился, даже выспался скрючившись. Ночью начался озноб ожидания. Наконец дверь открылась. Но это был не дежурный с папкой, а обычный вахтер.