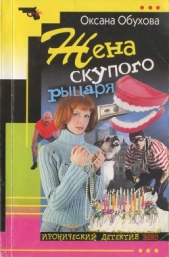За полвека. Воспоминания

За полвека. Воспоминания читать книгу онлайн
Петр Дмитриевич Боборыкин (1836-1921), создатель русского слова `интеллигент`, автор популярнейших романов: `Дельцы`, `Китай-город`, `Василий Теркин` и многих других, был `европеец не только по манерам, привычкам, образованности и близкому знакомству с заграничной жизнью, но европеец в лучшем смысле слова, служивший всю жизнь высшим идеалам общечеловеческой культуры, без национальной, племенной и религиозной исключительности. Вдумчивая отзывчивость на злобу дня... требует большой наблюдательности. И этим качеством Боборыкин обладал в высшей степени. Жизнь общества в данный момент, костюмы, характер разговоров, перемены моды, житейские вкусы, обстановка, обычаи, развлечения и повадки... русских людей у себя и за границей изображены им с занимательной точностью и подробностями`.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
П.И.Орлова держала тогда — уже на склоне карьеры — амплуа светских дам, отличалась представительностью и приятной дикцией. Через два года она уже попала в сестры милосердия во время Севастопольской кампании.
Итак, театр всего больше захватил меня, и вообще Москва показала себя «столицей» всего больше в театральных залах. Ничего подобного провинция не могла дать. В особенности зала Большого театра и такие зрелища, как балеты, тогда увлекавшие москвичей, с такими балеринами, как Санковская и Ирка-Матьяс. Совсем столицей обдал меня и последний спектакль тогдашней казенной французской труппы, который обыкновенно давался в среду на Масленой, после чего русская труппа овладевала уже театром до понедельника Великого поста и утром и вечером.
Меня взяла в ложу бельэтажа тетка со стороны отца, и я изображал из себя молодого человека во фраке. Тут было все тогдашнее светское общество. В литерной ложе дочь генерал-губернатора, графиня Нессельроде, тогдашняя львица, окруженная всегда мужчинами, держала себя совершенно по-домашнему, так же как и ее кавалеры.
Труппа была весьма и весьма средняя, хуже даже теперешней труппы Михайловского театра. Но юный фрачник-гимназист седьмого класса видел перед собою подлинную французскую жизнь, слышал совсем не такую речь, как в наших гостиных, когда в них говорили по-французски. Давали бульварную мелодраму «Кучер Жан», которая позднее долго не сходила со сцены Малого театра, с Самариным в заглавной роли, под именем «Извозчик».
И не для меня одного театральная Масленица сезона 1852–1853 года была прощальной.
На первой же неделе поста сгорел Большой театр, когда мы были на обратном пути в Нижний.
В Малом театре на представлении, сколько помню, «Женитьбы» совершенно неожиданно дядя заметил из кресел амфитеатра моего отца. С ним мы не видались больше четырех лет. Он ездил также к выпуску сестры из института, и мы с дядей ждали его в Москву вместе с нею и теткой и ничего не знали, что они уже третий день в Москве, в гостинице Шевалдышева, куда он меня и взял по приезде наших дам из Петербурга.
Мои московские впечатления стали с этого дня еще разнообразнее. Он возил меня к своим родным и знакомым, и я вкусил немного тогдашней московской жизни в домах, где принимали.
Чего-нибудь особенно столичного я не находил. Это был тот же почти тон, как и в Нижнем, только побойчее, особенно у молодых женщин и барышень. Разумеется, я обегал вопросов: учусь я или уже служу? Особого стеснения от того, что я из провинции, я не чувствовал. Я попадал в такие же дома-особняки, с дворовой прислугой, с такими же обедами и вечерами. Слышались такие же толки. И моды соблюдались те же.
Я это привожу опять-таки затем, чтобы показать, как тогда замечался и в губернских городах известный уровень культуры, и ничто такое, что входило в интересы тогдашнего общества в Москве, уже не удивляло особенной новизной юного гимназиста.
В литературные кружки мне не было случая попасть. Ни дядя, ни отец в них не бывали. Разговоров о славянофилах, о Грановском, об университете, о писателях я не помню в тех домах, куда меня возили. Гоголь уже умер. Другого «светила» не было. Всего больше говорили о «Додо», то есть о графине Евдокии Ростопчиной.
Не скажу, чтобы и уличная жизнь казалась мне «столичной»; езды было много, больше карет, чем в губернском городе; но еще больше простых ванек. Ухабы, грязные и узкие тротуары, бесконечные переулки, маленькие дома — все это было, как и у нас. Знаменитое катанье под Новинским напомнило, по большому счету, такое же катанье на Масленице в Нижнем, по Покровке — улице, где я родился в доме деда. Он до сих пор еще сохранился.
Барский строй жизни с военным оттенком замечал я всего больше в мельканье парных саней с пристяжками, в касках и киверах тогдашних гусар и улан. Фуражек тогда не позволяли носить; а теперешняя мерлушковая шапка всех бы скандализовала, особенно на голове гвардейца. Подтянутость публики замечалась везде, и борода, кроме как у купцов, бросалась в глаза, и из-за нее приводилось иметь дело с полицией. Но в общем Масленица текла бойко, шумно и, кажется, веселее, чем в последние годы. Особенного гнета я не замечал, и вся Масленая прошла для меня, как в чаду.
Студенческие треуголки (фуражки строго преследовались) волновали меня. Я уже мечтал о скором поступлении в университет провинциальный. Тогда столичные университеты имели обаяние запретного плода. Существовал комплект, и каждый из нас смотрел на здешнего студента, как на счастливца.
Одним из таких счастливцев оказался мой земляк Б-вин, сын председателя палаты.
Он перешел сюда из Казани. Я отыскал его в плохонькой комнате, где-то на Никитской; но для меня и невзрачная студенческая «меблировка» казалась чем-то соблазнительным, и хотя мы с ним были на «ты», но я смотрел на него как на избранника.
Студентов в театрах я как-то не замечал; но на улицах видал много, особенно на Тверской, и раз в бильярдной нашей гостиницы сидел нарочно целый час, пока там играли два студента. Они прошли туда задним ходом, потому что посещение трактиров было стеснено. Оба были франтоваты, уже очень взрослые, барского тона, при шпагах.
Теперешнего вида студентов, какие встречаются по улицам Москвы сотнями, тогда не было. Самыми бедными считались казеннокоштные, но они все одевались вполне прилично и от них требовалось строго соблюдение формы.
Древняя Москва только скользнула по мне. Кремль, соборы, Чудов монастырь, Грановитая палата — все это быстро промелькнуло предо мною, но без старины Москва показалась бы только огромным губернским городом, не больше. Что-то таинственное и величавое осталось в памяти, и в этой рамке поездка в Москву получила еще большее значение в моей только что открывающейся юношеской жизни.
С этим совпало и мое свидание с сестрой после такой разлуки. Моему долгому одиночеству настал конец. Молодое существо стало рядом со мною, и я, хоть моложе ее, очутился как бы в ее руководителях.
И весь конец моего ученья, вплоть до студенчества, получил более светлый налет.
Даже стало житься по-другому. В наш большой, строгий и почти безмолвный дом вошло молодое веселье. И постом мы танцевали.
С сестрой у меня сразу завязалась нежная дружба. Все мне было ново и близко в ее институтском прошлом. Шли бесконечные разговоры и рассказы. В ней я не нашел того, что тогда соединяли с понятием «институтка», — той смешной наивности и еще менее наивничанья. Она была первое время скорее застенчива в большом обществе, но без всяких странностей специфического «монастырского» оттенка. Я мог по ней изучать, какими выпускали из столичного института девушек средних талантов и среднего прилежания. Она просидела безвыездно около девяти лет в стенах здания на Фонтанке. Их учили не по-нынешнему, но довольно старательно. Кроме языков и так называемых «русских» предметов — немного естественным наукам, довольно хорошо словесности, заставляли немало писать, развивали их музыкальные способности, приучали красиво танцевать. Читали французскую л немецкую литературу на этих языках и заставляли много учить классических отрывков.
«Идей» в теперешнем смысле они не имели, книжка не владела ими, да тогда и не было никаких «направлений» даже и у нас, гимназистов. Но они все же любили читать и, оставаясь затворницами, многое узнавали из тогдашней жизни. Куклами их назвать никак нельзя было. Про общество, свет, двор, молодых людей, дам, театр они знали гораздо больше, чем любая барышня в провинции, домашнего воспитания. В них не было ничего изломанного, нервного или озлобленного своим долгим институтским сидением взаперти.
Напротив! Они не задавались «вопросами», но зато были восприимчивы ко всем веяниям жизни, с большим фондом того, что составляет душевную норму. Как девицы, выезжающие в свет, они охотно танцевали, любили дружиться без излишнего кокетства, долго оставались с чистым воображением, не проявляли никаких сознательно хищнических инстинктов.
Из них весьма многие стали хорошими женами и очень приятными собеседницами, умели вести дружбу и с подругами и с мужчинами, были гораздо проще в своих требованиях, без особой страсти к туалетам, без того культа «вещей», то есть комфорта и разного обстановочного вздора, который захватывает теперь молодых женщин. О том, о чем теперь каждая барышня средней руки говорит как о самой банальной вещи, например о заграничных поездках, об игре на скачках, о водах и морских купаньях, о рулетке, — даже и не мечтали.