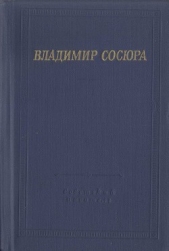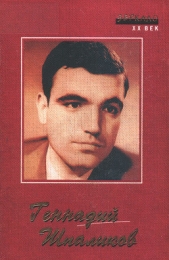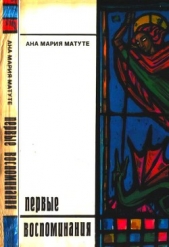Третья рота
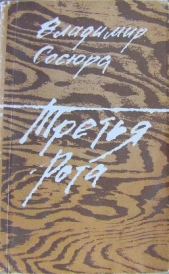
Третья рота читать книгу онлайн
Биографический роман «Третья Рота» выдающегося украинского советского писателя Владимира Николаевича Сосюры (1898–1965) впервые издаётся на русском языке. Высокая лиричность, проникновенная искренность — характерная особенность этого самобытного исповедального произведения. Биография поэта тесно переплетена в романе с событиями революции и гражданской войны на Украине, общественной и литературной жизнью 20—50-х годов, исполненных драматизма и обусловленных временем коллизий.
На страницах произведения возникают образы современников поэта, друзей и недругов в жизни и литературе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На свалке за магазином «Общество потребителей» при содовом заводе мы часто шарили в поисках разноцветных бумажек, ягодок и конфет, ярких лоскутков…
Как-то мы рылись на этой проклятой свалке, и я, не заметив, наступил босой ногой на половинку разбитой бутылки: острые концы её врезались мне в пятку. Я дико орал и никак не мог остановить кровь. Тогда Ларя Горох оторвал от своих штанов карман и перевязал мне ногу. Потом я лежал дома.
…Вот мы катаемся на дрезине, на которой рабочие возят шпалы для ремонта колеи возле завода. Я схватился за железные ручки спереди дрезины и бегу по шпалам — спиной к станции. Когда дрезина разгоняется, я вскакиваю на неё и мы смеясь тарахтим по рельсам, а потом всё начинается сначала. Но как-то раз я не успел вскочить на бешено мчащуюся дрезину. Ноги мои попали между шпал, и дрезина ударила меня выше колен. Однако я не выпустил железных ручек, хотя тело моё оказалось под дрезиной, между рельсами. Горошенята никак не могут остановить дрезину, она мчится, а я кричу, волочась под ней, но железных ручек не выпускаю из окаменевших рук.
Наконец дрезина остановилась. Меня вытащили из-под неё, я пытался встать, но не сумел. Страшный удар, наверное, парализовал мои ноги, и коленные чашечки свернулись на сторону. Мимо проезжал крестьянин с арбой сена, меня подняли и уложили на это сено, привезли домой. Я два месяца не мог ходить. А потом всё прошло, только коленные чашечки у меня и поныне острые.
Мы собирали на шахтах уголь и железо, медь и жесть, чугун, но больше — крали на заводе и продавали металлолом нашему родичу Удовенко, который жил на глухой улице, над Донцом, и прозывался по-уличному — Железняк.
Он платил нам за фунт меди 8 копеек, за фунт железа — копейку, за фунт чугуна — пол копейки и копейку за три фунта жести. Как-то мама взяла меня за руку и повела в заводскую бондарную мастерскую, где я стал работать учеником. Пантелей Плыгунов, цеховой бригадир, платил мне ежедневно 5 копеек, а я за это собирал гвоздики по цеху. Потом квалификация моя повысилась: я стал «заовтаривать» бочки для бикартоната, то есть вбивать гвозди в маленькие обручи над дном и вверху бочки с внутренней стороны обода и вбивать кольца в днища этих бочек.
Ещё в Седьмой Роте, где отец был сельским писарем, я, когда пас с сельскими мальчишками и девочками телят и коров, кроме игры «в кремешки», научился играть пальцами на губах. Делается это так: большим пальцем правой руки, повёрнутым и загнутым книзу, упираешься в подбородок, под нижней губой, но не сильно, и вытягиваешь сомкнутыми остальные пальцы, потом, охватив большой палец левой руки правой рукой, начинаешь быстро вертеть вверх и вниз ладонь правой руки. Когда крутишь ладонь и при этом мычишь, то мычание превращается в непрерывное «би-би-би», или «ми-ми-ми», или же «ма-ма-ма» — словом, как захочешь.
Я знал много мотивов вальсов, маршей, песен, и Пантелей Плыгунов заставлял меня играть для рабочих на губах.
Я садился, заложив ногу за ногу, на бочонок и почти целый день играл рабочим на губах, а им от этого лучше работалось.
Иногда я получал гривенник «на конфеты».
Мне очень нравилось работать в бондарне, а играть марши надоело, от них у меня болели губы и немели руки.
Все рабочие были весельчаки и много пели.
Ходят вокруг бочек на верстаках, забивают в обручи гвоздики и все поют, смеются и поют:
А румяный и красивый Панько Плыгунов, наш цеховой бригадир, только похаживал своей лёгкой походочкой по цеху и приветливо и весело всем улыбался. Он был ласковым человеком, задушевным, искренним и поэтичным. Никогда ни на кого не кричал и не бил, и работа вокруг вся в песнях и солнечных лучах так и кипела.
Возможно, и бывали у него конфликты с рабочими, но я такого не помню. Моё детское воображение было наполнено песнями и радужными картинками труда… Всем сердцем отдавался я работе… Очень я полюбил её и хотел быть как взрослые.
Но я был мал, а детский труд запрещался на заводе, и когда приходил инспектор по труду, Панько Плыгунов прятал меня в большую бочку, а когда инспектор покидал цех, я вылезал и с радостью погружался в звонкий и светлый мир труда.
Но недолго продолжалось моё счастье… Пришлось мне оставить завод, потому что малолетним не полагалось работать в этом коптящем и громыхающем гиганте.
Часто мне снилась залитая радужным солнечным светом и песнями бондарка, и я плакал во сне от тоски, невозможности вернуться в этот чудесный и манящий мир.
А зимой мы выехали в село Переездная, где отец стал учителем. Я уже красиво писал, на пятёрки и без ошибок, решал задачки на все четыре действия, умножал трёхзначные и даже четырёхзначные числа.
X
Зима. Яркая, пушистая, лунная зима в селе.
Я выбежал за ворота, и ко мне подошли две хорошенькие девочки. Одна в шубке с меховым воротничком, смуглая, черноглазая и ласковая. Луна над нами серебряно смеётся, а мы смотрим друг на друга, эта смуглая девочка и я; мне сладостно и [приятно] смотреть на неё. Сердце моё трепетно, певуче сжимается, и я весёлой серебристой птахой лечу в чёрные, полные звёзд озёра её глаз…
У меня не было пуговиц на пальто, и девочка вытащила булавку из своей шубки и заколола мне пальто, чтобы я не простудился. Когда она касалась меня, я весь замирал от сладостного и жуткого восторга. Мне хотелось, чтобы она никогда не убирала от меня своих рук… И ещё у меня не было носового платка, и она подарила мне свой, такой душистый и чистенький.
Потом мы втроём играли в фанты — завязывали рожки на платке. Только когда я целовал эту девочку, то никак не мог попасть в губы, а всё тыкался носом в её душистый и ласковый воротник. Потом эта девочка начала у нас учиться. Её привела к нам мама, полная, статная, смуглая и красивая. Она была слепая, но по её глазам этого никак не было заметно. Она смотрела на нас своими тёмными безднами и словно видела всё вокруг. Но она не видела ничего. В глазах у неё была «тёмная вода».
Я очень любил её дочку. Но мне не нравилось, что она выставляет напоказ нашу любовь.
Из-за этого она мне опротивела.
Вообще все девчонки тогда мне были противны. Я даже удивлялся, как я смог влюбиться в эту смуглянку. Но странное дело, девчонки хоть и были мне противны, однако в каждом селе я влюблялся в какую-нибудь из них, и они в меня…
Однажды мы колядовали: ходили со звездой и пели в хатах, а за это нам давали конфеты или деньги. Мы вошли в одну хату, очень бедную хату. Нам открыла дверь девочка с таким красивым лицом, что у меня застыла душа от внезапного счастья. Я молниеносно в неё влюбился.
Больше я этой девочки не видел никогда, потому что мы снова уехали в Третью Роту.
Все любови мои в разных сёлах никогда не заканчивались и не росли вместе со мной, потому что мы переезжали из села в село.
Вот Звановка.
Я в церкви и влюблён в дочку дьякона.
Она поёт в церковном хоре и, когда проходит мимо меня, словно бледный и скромный ангел, опускает ресницы и вся краснеет. И мне так жутко от этой тайны…
XI
Вот Седьмая Рота. И опять любовь, и опять дочка дьякона. Только та, первая, была худенькая, стройная, а эта — румяная толстушка, как просвирка, залитая вечерней зарёй, с тёмными, как и первая, глазками.
Разумеется, моя любовь к этим дьяконовым дочкам ограничивалась вздохами и грёзами, чистыми, детскими.
Ах, Седьмая Рота!..
Она, как и Третья, на берегу Донца, на его правом и крутом берегу.
Шумящий лес пьяно качается по ту сторону серебряной дороги в Дон. И запруда, а на ней дядьки в широкополых соломенных брылях «водят» в глубокой воде щук.
Удочка туго согнулась, и леска вот-вот оборвётся от метаний хищника, проглотившего вместе с наживой смертельно острый крючок. Как борется за жизнь щука! Туманной молнией пронзает она глубину и бросается, как обезумевшая, то влево, то вправо, то вверх, то вниз… А дядька, такой себе длинноусый Сковорода, прищурив хитрый карий глаз, спокойненько то отпустит леску, давая щуке обманчивую свободу, чтоб она ещё больше утомилась, то вновь подтянет, пока эта обессилевшая гроза плотвички и себельков не сдастся на волю победителя в белой полотняной сорочке с неизменной люлькой в зубах.