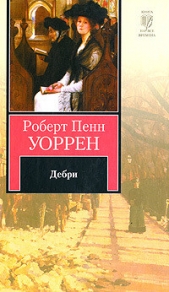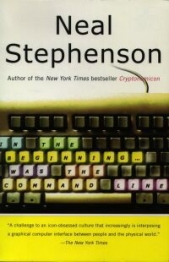Швейцер
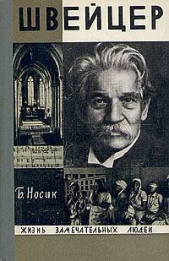
Швейцер читать книгу онлайн
Читателю, который раскроет эту книгу, предстоит познакомиться с воистину замечательным сыном XX века.
Доктор философии и приват-доцент теологии одного из старейших европейских университетов, музыкант-органист, видный музыковед и органный мастер в пору творческого расцвета и взлета своей известности сразу в нескольких гуманитарных сферах вдруг поступил учиться на врача, чтобы потом уехать в глухие дебри Центральной Африки и там на протяжении пол-столетия строить больничные корпуса на свои с трудом заработанные деньги, без вознаграждения и без отдыха лечить прокаженных, врачевать язвы, принимать роды.
И при этом он не оставил музыку, не бросил философию, а, напротив, поднялся и в той и в другой области до еще более высокого уровня.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Альберт Швейцер всю жизнь вспоминал потом простой каменный трехэтажный дом возле церкви св. Стефана, где на втором этаже жил Эуген Мюнх, его незабвенный учитель. Учитель прожил недолго. Он умер, когда Альберт учился в университете. В этот год и вышла первая из многочисленных книг Швейцера — маленькая книжонка, посвященная Эугену Мюнху. Швейцер отдал высокую дань учителю и позднее, написав в своей баховской монографии:
«Некоторые фразы сошли с кончика моего пера уже готовыми, и я понял, что я только повторяю слова и образы, которыми мой первый учитель-органист обращал мой разум к баховской музыке...»
Одним из самых сильных музыкальных впечатлений гимназических лет был концерт Мари Жозефа Эрба, на который повели двенадцатилетнего Альберта дядя и тетя. Впоследствии в статье, написанной для сборника «Великие французские музыканты», Швейцер очень живо описал этот концерт:
«Меня поразило, что вокруг было так много людей в вечерних костюмах, и я подумал о том, как выгляжу я сам в своем воскресном костюмчике, из которого давно вырос. Женщины грызли конфеты. Шум в зале вдруг стих. На сцену вышел человек, который показался мне очень высоким, и зал встретил его аплодисментами.
Это был месье Эрб, который, с блеском закончив ученье, только недавно вернулся из Парижа. Он сел за рояль и, пока не воцарилась тишина, играл вступление, после чего с воодушевлением приступил к первому номеру. Тут я понял, что значит виртуоз. Я был просто в изумлении, глядя, как летают над клавишами его руки. И все наизусть, без запинок и ошибок! Я просто оторопел, слыша эту игру. Напрягши все свое знание фортепьяно, я пытался представить себе, как рождается весь этот каскад арпеджио и эти вспышки метеоритов, выливающиеся в такую ясную мелодию, как достигает он этих пианиссимо, не теряя ни единой ноты...
Передо мной вдруг открылись возможности фортепьяно. Домой я брел как во сне.
Назавтра я отрабатывал свои гаммы и упражнения для пальцев и бился над этюдами Черни с неслыханным пылом, даже когда этюды эти пестрели диезами и двойными диезами, которые я так ненавидел раньше.
Впоследствии я слышал самых прославленных пианистов-виртуозов. Но ни один из них не привел меня в такой восторг и не дал столько вдохновения, как Эрб, когда я... был еще маленьким школьником».
В эту же пору Альберт впервые услышал в театре оперу Вагнера. Он был потрясен, и он не пропускал с тех пор в Мюльхаузене ни одной вагнеровской оперы, на всю жизнь сделавшись горячим поклонником «этого гения немецкой музыки».
Так мало-помалу обременительные и нудные уроки музыки обретали смысл для Альберта и меньше его мучили. Он вообще привыкал понемногу к строгому распорядку дядиного дома, отвоевывая для себя мелкие уступки и права. Так было, например, с газетами.
Мать Альберта обожала читать газеты, которые они в Гюнсбахе получали во множестве. Мать очень страдала по праздникам, когда газеты читать было не положено. Альберт тоже пристрастился дома к чтению газет, но тете Софи его привычка набрасываться на свежие газеты показалась отвратительным проявлением несносной его манеры глотать всякое чтиво. Когда начинали накрывать на стол, Альберт получал возможность прервать занятия на пятнадцать минут. В эти пятнадцать минут он и читал «Страсбургскую почту», «Мюльхаузенскую ежедневную почту» и «Мюльхаузенские известия». Тетя заявила, что он интересуется только литературными приложениями, и попыталась наложить полный запрет на все газеты. Ее неорганизованный племянник отрицал это обвинение, доказывая, что читает политические новости, потому что это то же самое, что новейшая история (а к истории он питал особую слабость). Конфликт разгорался, и дядя сам взялся за его разрешение.
— Что ж, сейчас посмотрим, — сказал он, — читает ли этот паршивец политические новости!
Он начал экзаменовать племянника, выясняя у него, какие царственные особы правят сейчас на Балканах и кто у них там премьер-министр. Когда Альберт справился с первым тестом, ему пришлось еще перечислять состав трех последних французских кабинетов. А в заключение дядя потребовал даже, чтобы он пересказал последнюю речь Эугена Рихтера в рейхстаге. Однако все завершилось полной победой племянника, салатом и печеной картошкой. Альберт получил разрешение читать газеты и даже злоупотреблял им, развлекая себя время от времени чтением литературных приложений. Более того, дядя стал относиться к нему почти как к взрослому и удостаивал разговором на политические темы.
Годам к четырнадцати у юного Швейцера стал что-то портиться характер. У каждого по-своему протекает процесс ломки и созревания: Альберт, такой сдержанный раньше, стал вдруг заядлым спорщиком. Всякому встречному и поперечному он готов был теперь излагать свои взгляды, докапываться до корня чужих ошибок, развенчивать предрассудки и заблуждения, доказывая самую правильную и самую современную точку зрения. Для обычной застольной беседы все это бывало слишком глубокомысленно. Кроме того, взрослые вовсе не желали, чтобы кто-либо нарушал их послеобеденный покой, заставлял их спорить о вещах, которые они считали для себя давно решенными, да при этом еще спорить с мальчишкой. Сколько раз и в Мюльхаузене и в Гюнсбахе Альберт превращал мирную застольную беседу в шумную, изнурительную дискуссию. От его былой выдержанности и застенчивости не осталось следа: точно какой-то бес вселился в него. Тетя Софи была этим крайне недовольна и часто ругала Альберта за его невоспитанность. Но больше всех, конечно, терпел отец: и теперь, отправляясь в гости с Альбертом, он заранее брал с него обещание, что «он не будет портить людям настроение дурацкими спорами». Впрочем, отец умел быть снисходительным и здесь. Вообще, отношения между детьми и родителями в пасторском доме были, как писал впоследствии Швейцер, «идеальными благодаря мудрому пониманию, с которым родители относились к детям, даже когда дети вели себя глупо... Они приучили нас к свободе. Никогда, с тех самых пор, как я забросил свою несчастную привычку спорить, не бывало у нас в доме натянутых отношений между отцом и взрослым сыном, что мешает счастью столь многих семей... Мой отец был моим самым дорогим другом».
Что же до самой «несчастной привычки спорить», то это, по мнению Швейцера, не было просто каким-то временным наваждением или издержками роста. Вероятно, в мальчике пробудился «дух дедушки Шиллингера, любившего добиваться истины». Ведь в исканиях его внука, какими бы неприятными и назойливыми они ни казались взрослым, не было никаких эгоистических мотивов: они были рождены «страстной потребностью мыслить и отыскивать с помощью собеседника истинное и полезное». Альбертом овладело убеждение, что «на место расхожих мнений, недомыслия и предрассудков должны прийти выношенные мысли» и что только в этом случае будет возможен прогресс человечества. Это и побуждало его к мальчишески горячим, пускай даже и не всегда уместным, спорам.
В «Воспоминаниях», прибегая к выразительным сравнениям, навеянным опытами эльзасской жизни, Швейцер пишет, что, конечно, процесс брожения был малоприятным, но вино после этого оставалось чистым. Защищая свое мятежное отрочество, он пишет, что ощущал уже в те годы, что, отступись он в пользу общепринятых взглядов от убеждений, которые защищал с таким рвением, он отступился бы от самого себя. Позднее природная сдержанность помогала ему соблюдать условности, и он старался поддерживать даже ничего не значащие, бессмысленные разговоры, так широко распространенные в современном обществе, просто чтобы не раздражать и не обижать людей. Но и позднее он при этом бунтовал внутренне и «страдал, потому что мы тратим столько времени бесполезно, вместо того чтобы серьезно и разумно говорить о серьезных предметах и глубже узнавать друг друга, как подобает человеческим существам, которые надеются и верят, жаждут и страдают».
Уступая правилам благовоспитанности, он часто размышлял о том, как далеко может распространяться это подчинение правилам, не нанося ущерба истине.
В этом настроении встретил Швейцер обряд конфирмации — позднего крещения, которое, по убеждениям протестантской религии, должно совершаться уже в сознательный период жизни и которому протестантская церковь придает большое значение.