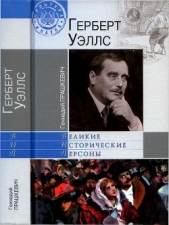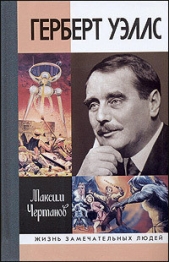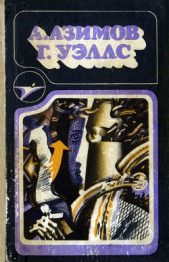Опыт автобиографии

Опыт автобиографии читать книгу онлайн
Приступая к написанию воспоминаний, автор и не подозревал, какое место в его творчестве они займут. Поначалу мемуары составили два тома. Со временем к ним добавился еще один, «Влюбленный Уэллс», — об отношениях с женщинами. В результате «Опыт» оказался одной из самых читаемых книг Уэллса, соперничая в популярности с его лучшими фантастическими романами.
В книге содержатся размышления не только над вопросами литературы. Маститый писатель предстает перед нами как социолог, философ, биолог, историк, но главное — как великая личность, великая даже в своих слабостях и недостатках. Горечь некоторых воспоминаний не «вытравляет» их мудрости и человечности.
«Опыт автобиографии» — один из важнейших литературных документов XX века.
На русском языке публикуется впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Итак, по-дружески споря, Гиссинг, Джейн и я отправились в Рим, жадно схватывая впечатления и обмениваясь ими. То был Рим, еще не исковерканный мэром Натаном и не ведающий того, что уродливая махина мавзолея Виктора-Эммануила {224} загубит всю площадь Венеции, где основной магистралью оставалась Корсо. Под Форумом мирно почивали ненайденные захоронения этрусков, а на месте нынешних клумб цвели полевые цветы и зеленели сорняки. Когда мы бродили возле Тиволи, мне в голову пришел сюжет «Сердца мисс Уинчелси», и я даже помню, как поделился им с Гиссингом.
Гиссинг, как и Гиббон {225}, считал, что христианство загубило классицизм, и позволил нам разделаться с Ватиканом и собором Святого Петра собственными силами. В сумрачных, пропахших ладаном храмах я ощутил дыхание Египта и его древних тайн, а в папском городе, среди снующих взад-вперед паломников, библиотек, галерей, обсерваторий, ренессансной архитектуры, скорее растерялся. Во всем этом было нечто большее, чем пышность и помпезность, — чувствовалась традиция и ее упадок. Вавилонская блудница моих юношеских предрассудков не имела к этому отношения. Я ощутил, что протестантство несправедливо к Риму эпохи Возрождения.
Здесь, совершенно явно, была великая система, искренне стремившаяся объять ширившуюся вселенную — связный план человеческой деятельности. Простенькое слово «предрассудок» ее не исчерпывало.
Я догадывался, что была католическая Реформация, не менее решительная, а то и более глубокая, чем Реформация протестантская; что мышление римского священства вовсе не застыло in saecula saeculorum [20], но, пережив еще в те времена немыслимые потрясения, и сейчас, как все живое, применяется к обстоятельствам. Несмотря на свои нехристианские настроения, в глубоком космополитизме католической доктрины я обнаружил что-то мне родственное. Да, Католическая Церковь соединяет древнее, дряхлое богословие и явную оторванность от мира земного, но — по-своему и как бы частично — остается «легальным заговором», в противовес собственной природе, с целью перестроить всю человеческую жизнь. Если бы Папы во времена своей силы смогли воплотить то, на что замахнулись, католицизм бы куда больше походил на того компетентного судью дел человеческих, которого я так искал всю жизнь, чем на выразителя беспорядочного провиденциализма, пропитавшего политическую и общественную мысль XIX века. Католицизм гораздо шире и масштабнее в духовном смысле, нежели любое из националистических протестантских учений, и уж конечно несравненно выше дремучего возвращения к ненависти, которое являют нам гитлеризм или ку-клукс-клан. Я бы даже поостерегся назвать его «реакционным», не сделав необходимой оговорки.
Долгие годы я открыто враждовал с католичеством, и, хотя ревнители благочестия вполне законно бранили меня, я считаю воинствующего католика честным бойцом и человеком цивилизованным, достойным той великой культурной системы, в которой могли созреть и выразить себя такие гении, как Леонардо и Микеланджело. Философия его, древняя и реалистическая, порой придает ему вызывающую жесткость, но это — совсем другое дело. Я не так тонок, чтобы решить, убежденный я атеист или отъявленный еретик на самом краю католичества, дальше ариан и манихеев; в любом случае я — ветвь с его древа.
Вернемся, однако, с ватиканской экскурсии к Джорджу Гиссингу. Желание вырваться из сети запутанных обстоятельств, почти всегда свойственное тем, кто живет своим воображением, в его случае приводило к отчаянным попыткам унести ноги любой ценой. Он сбежал с нами в Италию от второй жены. Жуткое уединение с той, с кем нет ни единой общей мысли, эту беспрерывную ссору больше терпеть он не мог. Известная специалистка по воспитанию, восторженно относившаяся к Гиссингу, предложила взяться за миссис Гиссинг и их детей, установить с ней приемлемые отношения, в сущности — воспитать ее, пока Гиссинг ищет мира и покоя в обожаемой Италии. Ничего из этой затеи не вышло; доброхотливая дама лезла в то, чего не понимает, а жена, растерянная и безмерно возмущенная этим загадочным, завладевшим ею человеком, шла сквозь истерики и сцены к душевному расстройству. Она и впрямь вела себя возмутительно — в римский отель Алиберти приходили письма, после которых Гиссинг ходил весь белый, трясясь то ли от ярости, то ли от слабости. Лучше всего было отправиться с ним в окрестности, в какую-нибудь придорожную таверну, к Мильвийскому мосту, или в Тиволи, или по Аппиевой дороге, чтобы он попивал грубоватое красное вино, болтал по-итальянски с крестьянами, пускался в споры об обществе, истории, этнографии, — и в конце концов загонял донимавшую его тоску поглубже.
Этот несчастный, истерзанный мозг, столь искушенный в учености и эстетической восприимчивости, столь неискушенный, столь трепетный и податливый в реальном противостоянии жизни, уехал от нас в Калабрию и написал там «У Ионического моря», а позже, в Англии, — «Записки Генри Райкрофта». Интерес к этим книгам, где он так силится казаться образованным бездельником восемнадцатого столетия, в немалой мере способствует тому что, под всеми стараниями сохранить личину, можно распознать безжалостность обстоятельств, тех устрашающих препятствий, которые ему выпали на долю как бы в возмездие за неверный старт, за дурацкий, необдуманный выбор. Наверное, Гиссинга всю его жизнь травила судьба, но он не обернулся, не вступил с ней в схватку, а только прятался и убегал.
Вскоре мы вернулись в Вустер-парк, а он вместе с какой-то «достойной хозяйкой» — в сущности, кухаркой — обосновался в Доркинге. Жена, под опекой лондонской дамы, не ведала, где находится муж. В Доркинге ему жилось очень плохо и одиноко. Однажды он пришел к нам с просьбой. Одна француженка предложила перевести его книги на французский, он хотел что-то обсудить с ней. В Доркинге, объяснил он, просто немыслимо ее принять, нельзя ли устроить встречу у нас?
Мы пообедали все вместе, а потом они спустились в сад и долго беседовали. Она была из образованной буржуазной семьи, в темном изящном платье, с гладкими темными волосами. Говорила она чуть нараспев, тщательно следя за интонацией, на наш английский вкус — многовато и чересчур откровенно, и казалась слишком уж изысканной и ученой. Для Гиссинга она была первым знамением европейской славы и, по-видимому, воплощала то общение, то понимание, по которому он тосковал. Нормальные мужские склонности, которые я уже проанализировал в себе, у него получили невиданное развитие. Он на редкость нуждался в материнской нежности, но как любовник совершенно не собирался жертвовать собою.
Вскоре, из случайной фразы, мы поняли, что она посетила Гиссинга в Доркинге, причем уже стала просто Терезой. Других признаний мы от него не услышали. Он покинул Доркинг и уехал в Швейцарию, где поселился с Терезой и ее матерью. Он дал понять, что они «будут жить вместе», и, дабы рассеять возможные осложнения с французской родней, мать пустила в обращение визитные карточки, на которых фамилию Терезы переправили на «Гиссинг». Все это, разумеется, хранилось в строжайшей тайне от его жены и большинства английских друзей. Те же из нас, которые знали правду, полагали, что, раз этот выдающийся ум сможет обрести условия, которые помогут ему справиться с достойной его работой, потворство столь мелкому обману можно не принимать в расчет.
Вскоре появился «Венец жизни», самый слабый его роман, но много о нем говорящий. «Венец жизни» — это любовь, любовь во фраке. Так думал Гиссинг о любви или, по крайней мере, осмелился думать. Мы решили, что в конце концов что-то подобное должно было случиться, зато теперь он напишет великий роман из времен Кассиодора {226}.
Наши надежды оказались тщетными. Годом позже, возвращаясь из Швейцарии, мы с Джейн навестили его в Париже и застали в беспросветной тоске. Квартира была изысканно-унылой, на изящный французский манер. Он исхудал, осунулся, ничем всерьез не занимался, горько сетовал на мнимую тещу, заправлявшую домом и, по его словам, морившую его голодом. Встреча с нами нежданно-негаданно вызвала у него приступ англомании, некой животной ностальгии, и вскоре он примчался к нам в Англию. К нему пришел его школьный товарищ Генри Хик, врач, о котором чуть погодя я еще скажу, и на самом деле установил истощение. Джейн принялась его откармливать, аккуратно взвешивая через равные промежутки времени, и очень быстро достигла превосходных результатов.