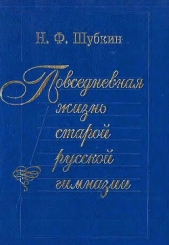Моя служба в Старой Гвардии 1905–1917
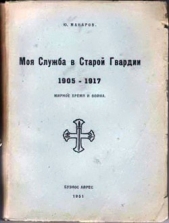
Моя служба в Старой Гвардии 1905–1917 читать книгу онлайн
Юрий Владимирович Макаров служил в лейб-гвардии Семеновском полку — одном из старейших воинских формирований русской армии, стяжавших славу на полях сражений. В своих мемуарах он обозначил важнейшие вехи в истории Семеновского полка в последний период его существования — с 1905 по 1917 год. Это объективный беспристрастный, но глубоко личностный рассказ о жизни и быте русского офицерства, прежде всего его элиты — гвардейцев, их традициях и обычаях, крепкой воинской дружбе и товариществе, верности присяге, нравственном кодексе офицерской чести. Автор создал колоритную панораму полковой жизни в мирное и военное время, яркую портретную галерею типичных представителей русского офицерства — от подпоручика до свитского генерала. Особенная историческая ценность работы состоит в уникальных сведениях, которые ныне малодоступны даже для историков. Подробно описана внутренняя жизнь городского и лагерного офицерского Собрания. Немало страниц посвящено культурной жизни Петербурга-Петрограда начала XX века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Несмотря на большую работу, которой он нагружал солдат и офицеров, сколько приходилось слышать, никто на Соважа не ворчал. Людям свойственно ворчать на монотонную, скучную, нудную работу. Соваж же молодой, живой человек и большой психолог, какую угодно работу умел делать занимательной и интересной. Скучать он не давал.
С солдатами он говорил постоянно, а когда разносил, употреблял особый тон, нарочито грубовато-ласковый, никогда по-настоящему не сердясь и скверных слов, отнюдь, не употреблял. Главным образом попадало начальствующим лицам, взводным и ниже, за несообразительность, шляпство и растяпство. Ругательный лексикон его был богатый и своеобразный: «чудовище морское», «дракон китайский», и, наконец, самое любимое «кашалот египетский», что уже не имело никакого лексического смысла, но цели своей отлично достигало, будя уснувшие мозги. Разнесенный таким образом начальствующий чин не знал, что ему собственно делать, обижаться или смеяться, но тут же решал, что командир его «мал да удал» и что с ним следует держать ухо востро.
С офицерами Соваж обращался как старший товарищ, каким он и был, но без всякой фамильярности. Почти все время его командования полк располагался по квартирам и почти всегда по-батальонно. И очень часто вечером, после занятий, Соваж отправлялся в гости, то в один, то в другой батальон. Там ему давали чай, а если поблизости было Экономическое общество и можно было достать красного вина, варили «глюнтвейн». «Короткие напитки», т. е. водку и коньяк, Соваж тоже, разумеется, признавал, но потребление их не поощрял. Во время таких визитов в батальоны, он держал себя совершенно по-товарищески. Те из офицеров, которые умудрились сохраниться с начала похода, — таких было уже немного, — вспоминая Эттеровские времена, радовались, какого мы себе, наконец, заполучили командира. И действительно, перебери всю Российскую армию, трудно было найти лучше, а главное более к нам подходящего. Думали так, коли не убьют его летом, то под его командой будем мы драться хорошо, удачно и умно. Храбрых командиров было не занимать стать. Умных и знающих было мало.
И вот 8-го мая 1916-го года, на легком 20-ти верстном переходе, по пути к Мелодично, произошел случай трагичный и совершенно нелепый. Соваж держал двух верховых лошадей. Одна была молодая красавица, рыжая кровная кобыла, с тоненькими сухими ножками. Она была слишком резва и для похода не годилась. На ней Соваж ездил только для удовольствия. Для похода же была у него другая лошадь. Тоже красивый, но уже старый караковый конь, с мирной, плавной рысью и с широким спокойным шагом. Был у него только один недостаток. Был слаб на передние ноги. Звали его «Боярин».
Утром 8-го мая, перед выступлением Соваж сел на Боярина, пропустил мимо себя полк, потом рысью обогнал его, встал в голову и в самом приятном расположении духа, под еще нежаркими лучами весеннего солнца, и под пение жаворонков, с полковым адъютантом и с двумя ординарцами, двинулся вперед по шоссе. Переход был небольшой и люди шли весело. Как всегда по шоссе шли в ногу и как всегда, то в одной, то в другой роте распевали песни.
На походе раза два Соваж останавливался и пропускал мимо себя полк и, конечно, любовался им. Это был плод его неустанной семимесячной работы. Ни до, ни после в таком, поистине, блестящем состоянии полк не был. Потому что никогда, ни раньше, ни после, в боевой обстановке, мы так долго и так умно не учились. На привалах Соваж был оживлен и весел, говорил и шутил с солдатами и с офицерами. Наконец, часа в 4 стали подходить к деревне, где была назначена ночевка.
Последний раз, ловко, по-кавалерийски, сидя на грузном Боярине, Соваж пропустил мимо себя полк и каждую роту поблагодарил за молодецкий вид. Последними прошли обозные, лихо вытянув руки с вожжами вперед и молодецки задрав голову на начальство. И обозные получили ласковое слово.
В это время к Соважу подскакал ординарец и доложил ему, что ему готова изба и что командирские денщики все ему приготовили для ночлега и даже достали и поставили самовар.
Соваж снял фуражку, отер потный лоб, круто повернул тяжелого Боярина и с места поднял его в галоп. Деревня стояла тут же на пригорке, немножко в стороне от шоссе, но Соваж устал много часов подряд ехать шагом, ему было жарко и хотелось пить. Он поскакал. И тут случилось то, после чего долго не могли придти в себя и те, кто это видел, и те, кто не видел. На войне смерть вещь обыкновенная и ею никого не удивишь. Но так, как умер Соваж, не умирал наверное ни один из многих миллионов воинов, которые четыре года дрались на всех многочисленных фронтах. Грузный Боярин шел полным махом и на всем ходу споткнулся о широкий плоский камень в земле и упал на передние ноги. Будь Соваж плохим ездоком, он вылетел бы из седла и в худшем случае набил бы себе шишку. На его несчастье он был отличный ездок. Он прирос к седлу и остался сидеть. От силы хода лошадь перекинулась кувырком и крупом размозжила ему голову. Все это случилось в одно мгновение и на газах у половины полка. Со всех сторон к нему бросились люди. Прибежали наши доктора. Соважа подняли и внесли в ближайшую избу. Не приходя в себя, через полчаса он скончался. А через час о. Александр служил по нем панихиду. И когда поминали «новопреставленного воина Сергия», то с сухими глазами не было в полку ни одного человека.
После трагической и нелепой смерти Соважа, через месяц, т. е. в июне 16-го года, у нас был новый, последний назначенный царем, командир, генерал-майор Павел Эдуардович Тилло. Это был еще молодой, 45-летний мужчина, сухощавый с квадратной бородкой, выше среднего роста. В 1891 году он кончил Пажеский корпус и был выпущен подпоручиком в Преображенский полк. Ни в какие академии не ходя, он монотонно и лениво протянул лямку 24 года в своем полку и, уже сдав свой батальон, вышел на войну «старшим полковником».
В начале 15-го года он получил 187-ой Башкадыкларский пехотный полк, а в июне 16-го года — наш.
На русской службе вообще, а на военной в частности, служило множество потомков людей всевозможных национальностей. Надо полагать, что как и Соваж, Тилло был происхождения французского. Но если Соваж получил от своих предков «острый гальский смысл» и много французской живости, Тилло от своих не унаследовал ровно ничего. По характеру и по натуре это был типичнейший «хохол», ленивый и невозмутимый. Самое излюбленное его времяпрепровождение было лежать на бурке у себя в палатке, в блиндаже или в землянке, смотря по тому, где ему быть полагалось, и курить. По стилю надлежало бы ему курить трубку, «люльку», но он почему-то курил папиросы. Когда надоедало спать или просто лежать, он читал французские романы. Кутузов на войне тоже читал французские романы, но то был Кутузов. За свое постоянное лежанье пластом, от офицеров он получил прозвание: «пластун». Когда ему надоедало читать и «отдыхать лежа», он занимался ловлей мышей в мышеловку и на стене в землянке отмечал крестиками количество жертв.
В делах службы Тилло держался старой гвардейской традиции, без приглашения к подчиненным не являться и зря не беспокоить ни людей, ни себя. Строевым обучением полка он совершенно не занимался. В противоположность Соважским временам, если что-нибудь в этом направлении и делалось, то делалось исключительно батальонными и ротными командирами по собственной инициативе.
В мой последний приезд на войну я командовал ротой около полутора месяца. И ни разу ни у себя, ни в соседних ротах я командира полка не видал. Не видал его и в окопах.
С солдатами Тилло не разговаривал, но не потому, что считал это ниже своего достоинства. Он был человек простой и доступный, но он не любил говорить. По малословию в полку у него был только один конкурент, двоюродный брат моей жены, капитан Владимир Ильич Вестман, носивший название «великий молчальник». Придешь бывало в гости к Вестману в землянку. По положению он сейчас же велит «связи» согреть чайку, а потом сядет, смотрит на тебя дружелюбно и… молчит. Спросишь его что-нибудь, не спеша ответит, а потом опять молчит. Выпьешь кружку, другую в молчаньи, потом начнешь собираться домой.