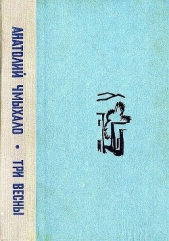Повести моей жизни. Том 2

Повести моей жизни. Том 2 читать книгу онлайн
Постановлением «Об увековечении памяти выдающегося русского ученого в области естествознания, старейшего революционера, почетного члена Академии наук СССР Н. А. Морозова» Совет Министров СССР обязал Академию наук СССР издать в 1947—1948 гг. избранные сочинения Николая Александровича Морозова.Издательство Академии наук СССР выпустило в 1947 г. в числе других сочинений Н. А. Морозова его художественные мемуары «Повести моей жизни», выдержавшие с 1906 по 1933 гг. несколько изданий. В последние годы своей жизни Н. А. Морозов подготовил новое издание «Повестей», добавив к известному тексту несколько очерков, напечатанных в разное время или написанных специально для этого издания.В связи с тем, что книга пользуется постоянным спросом, в 1961 и 1962 гг. было предпринято новое издание «Повестей» в двух томах, которое в основном повторяло трех томное издание 1947 г. Настоящее издание отпечатано с матриц 1961 г.Редакция и примечания: С. Я. ШтрайхОтветственный редактор: проф. Б. П. Козьмин.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Почему мы едем не по той освещенной дороге? — спросил я извозчика.
— Здесь ближе в ту часть города, куда вы едете, — ответил он.
Я был рад мчаться в одиночку во тьме и, отвернувшись от этого полосатого признака цивилизации, видеть над собою лишь вечные звезды и чувствовать внизу под скорлупой занесенного снегом льда уснувшую на время морскую бездну.
Я приехал в Кронштадт без всяких приключений. Все три офицера приветливо встретили меня, их денщик быстро поставил самовар для моего отогревания после поездки на сильном морозе, и мы принялись рассказывать друг другу новости. Кроме офицеров, сюда пришло еще и несколько вольноопределяющихся, один из которых, Люстих, очень понравился мне, а другой, Дегаев, почти все время молчавший, обратил тогда мое внимание на себя лишь гнилыми редкими неровными зубами и тем, что у него скверно пахло изо рта, когда он сидел близко.
Однако вскоре я увидел, что около этого человека есть магнит, который заставлял остальных офицеров поневоле группироваться поблизости от него. Когда я прощался с ними, уезжая, Дегаев мне сказал:
— Зайдите в Петербурге в субботу вечером к моей матери. Мы все соберемся там, и, кроме того, моя сестра очень желает с вами познакомиться.
— Непременно! — ответил я и в назначенный вечер действительно явился по данному мне адресу.
Я застал там несколько человек из тех же самых офицеров в гостиной, меблированной с «претензией на вкус», за длинным чайным столом вместе с хозяйкой дома, очень симпатичной пожилой дамой, и с ее молоденькой дочкой, похожей на гимназистку старших классов.
Хозяйка усадила меня рядом с собой, налила чаю, и разговор завязался самый обыкновенный о разных газетных новостях. Никто, прислушавшись к нам, даже и не подумал бы, что здесь совершается что-нибудь необычное, имеющее серьезные дальнейшие последствия. Но вскоре все совершенно изменилось.
— Пойдемте к моей сестре! — сказал выходивший перед тем на несколько минут в глубинные комнаты Дегаев.
— Но ваша сестра здесь! — сказал я ему, указывая на гимназистку.
— Это не та! — ответил он, с пренебрежением взглянув на молоденькую девушку. — Я говорю о моей замужней сестре.
«Но почему же она не вышла сюда?» — захотелось мне спросить, однако же я сразу удержался, поняв, что если той сестры нет, то этому должна быть какая-нибудь уважительная причина, о которой неудобно говорить при публике. И действительно, все так и оказалось. Дегаев провел меня через промежуточную комнату в изящно устроенный дамский будуар. Там на маленькой кушетке, перед которой стоял столик с лампой, прикрытой малиновым абажуром, полулежала в живописной позе, протянув свои ножки, молоденькая, изящная дама с раскрытой книжкой стихов на своих коленях, со взглядом, устремленным вдаль и с замечательным выражением своего кругленького чисто херувимского личика. Она, казалось, так замечталась, что даже и не заметила нашего входа. Только когда мы подошли к самой кушетке, девушка вдруг взглянула на нас, улыбнулась и сказала, протягивая мне свою крошечную пухленькую ручку:
— Ах, здравствуйте! Я так много о вас слыхала от брата! Я очень, очень хотела с вами познакомиться!
Я сел перед нею на изящном мягком стуле, как несколько недель назад на табуретке перед Вивиен де-Шатобрен, и сразу подумал:
«Это она нарочно не вышла в гостиную, чтоб моя первая встреча с нею произошла в такой необычной обстановке для нашей радикальной среды. Она хотела, чтобы я сразу был ослеплен ею или по крайней мере выдвинул ее на исключительное место. Большая, должно быть, кокетка! Наверное, уже вскружила головы всем этим молодым офицерам и сделала себя и брата их центром. Придется очень считаться с нею».
Я оглянулся, чтоб посмотреть, почему ее брат не сидит рядом со мною, но, к удивлению своему, увидел, что его совсем нет. Проводив меня к сестре, он тотчас же незаметно исчез по мягкому ковру. Я с трудом сдержал улыбку. Это было подготовлено уж слишком наивно: ему было сказано привести меня и уйти, но именно потому это мне и понравилось. Наивность ведь признак свежести, а свежесть симпатична, в какой форме ни проявилась бы.
— Вы поэт? — спросила она меня с томным взглядом своих карих красивых глаз, поднявшихся прямо в мои глаза.
— Кое-что пишу и стихами.
— Я только что читала ваши стихи. Они всегда производили на меня очень сильное впечатление.
И она указала на книжку на своих коленях.
Это был женевский сборник «Из-за решетки». Мне невольно вспомнилось, как точно так же положила его на столик, чтоб я его мог видеть, и юная компания курсисток и гимназисток, пригласивших меня к себе тотчас же после моего освобождения из заточения.
«Как одинаковы у всех приемы! — невольно подумалось мне. — Сущность всех душ одна и та же, и разнятся только мелкие детали. Но мне это нравится, показывает общность сознания всего человеческого рода».
— Я тоже пишу стихи! — сказала мне она.
— Можно послушать хоть одно?
— Да. Я вам сейчас прочту одно, которое я считаю лучшим. В нем описывается политический заключенный, гибнущий в темнице за идею.
И, устремив свои широко открытые карие глаза как будто в глубину небес, открывшуюся для нее сквозь стены комнаты, она приняла на кушетке сидячее положение с вытянутыми вперед миниатюрными ножками в изящных туфельках и чулочках, едва высунутых из-под художественных складок ее красиво положенного платья, и начала декламировать свое стихотворение. Оно было во многих местах очень хорошо. Чувствовались тут и там музыкальность и поэзия. Теперь я помню только две строки из их середины, в которых говорится о политическом заключенном:
И еще две строчки из самого конца:
Но она декламировала их так театрально-патетически, что испортила первое впечатление. Я взял у нее их копию, чтобы поместить в «Земле и воле», но недостаточная обработка некоторых строф помешала мне исполнить это намерение.
— Знаете, — сказала она, — я хочу сделаться актрисой, и притом именно для того, чтобы помогать вам в вашей героической деятельности.
Слово «героической» было произнесено ею с таким глубоким убеждением, что мне неловко было даже и запротестовать. В результате пришлось сделать вид, как будто я не расслышал или получил от нее нечто вполне заслуженное.
— Да, — сказал я скромно, — быть актрисой, конечно, хорошо. Актрисы вращаются в любом кругу и могут много знать.
Но вдруг я спохватился: зачем я говорю неправду?! Ведь я чувствую, что ее в актрисы не примут, у нее, очевидно, нет артистического таланта. Она сама себя слушает при декламации. Сразу видно, что она играет роль. При этом у нее не получается иллюзии действительности, как должно быть у настоящей актрисы.
Мне стало очень жалко предчувствовать ее будущее разочарование. И предвиденье неведомого еще для нее, но ясного для меня и уже ждущего ее горя сближало меня с нею. Ведь ей искренно хотелось быть хорошей, быть талантливой, и она имела к этому явные задатки, но ее избаловали с детства похвалами благодаря ее ангельскому личику и поставили на ходули. И я чувствовал здесь свою беспомощность. Я понимал, в чем состоит драматический талант, хотя и не был сам артистом. Научить ее я не мог, тем более что молодые офицеры там, в гостиной, очевидно, были в полном восторге от каждого ее слова, от каждого ее взгляда, от каждого ее поступка.
И я убедился в этом, когда часа через два нашего tête-à-tête они получили приглашение явиться к нам.
Поздней ночью я ушел вместе со всей их компанией. У меня в голове был полный кавардак разношерстных впечатлений относительно героини найденного мною здесь общества. В Дегаевой была смесь искреннего и напускного, прирожденный талант и искаженность от последующего воспитания. Но прежде всего и после всего было ясно, что со своим ангельским личиком и «симпатизирующим вам» обращением она была силой среди окружавшей ее военной молодежи.