Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона
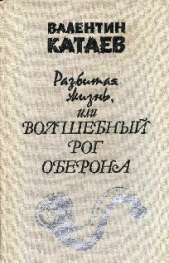
Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона читать книгу онлайн
„Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона"— книга, написанная на автобиографическом материале. Состоящая из отдельных фрагментов-воспоминаний, она объединена единым художественным замыслом и воссоздает гармонически целостную картину жизни детских лет писателя. И в этом произведении В. Катаева проявились такие особенности его стиля, как гротескность, лиризм, остроумие, наблюдательность, конкретно-чувственное восприятие мира.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
С Васей пришли и остальные наши «двоюродные» во главе с милейшей Зинаидой Эммануиловной в ее клетчатой потертой ротонде с треугольным капюшоном, придававшей ей нечто иностранное, швейцарское.
…Швейцарское всегда незримо присутствовало за ее спиной: Женевское озеро, зубчатые снежные горы «Дан дю Миди», крылатые паруса, Шильонский замок…
Гости наполняли веселыми восклицаниями все комнаты нашей квартиры, потонувшей в клубах горького блинного чада.
Героем дня был Вася, отправлявшийся на днях в Хабаровск на открывшуюся вакансию военного врача-лекаря, так что, в сущности, он уже был офицером: в Хабаровске его должны были произвести в первый офицерский чин. Японская война уже кончилась, но Дальний Восток, куда уехала Надя с мужем и теперь уезжал Вася, все еще казался театром военных действий, что усиливало общий интерес и любовь к Васе.
Маленький Женька не отходил от Васи, держа его своей пухлой ручкой за обшлаг военного сюртука, и тащил к пианино, упрашивая: «Вася, лягай кеквок!» — что обозначало: «Вася, играй кекуок!»
Вася покрутил плетеное сиденье, визгнувшее на железном винте, сел за пианино, поправил пенсне, щегольским жестом откинул в стороны фалды мундирного сюртука с погонами Военно-медицинской академии и нажал на педаль ногой в узких диагоналевых брюках с красным кантом; он поднял руки, собираясь ударить по клавишам, но вдруг раздумал и повернул к нам, обступившим его мальчикам — Женьке, Саше и ко мне, — лицо с бровями, черными как пиявки, сдвинутыми над переносицей, прищипленной машинкой своего столичного пенсне.
— А вы, эфиопы, уже пили рыбий жир? — зловеще спросил он.
Я и Саша похолодели, так как надеялись, что в общей масленичной суете рыбий жир, который мы ненавидели до рвоты, как-нибудь пронесет мимо. Что касается Женьки, то он, как это ни странно, очень любил рыбий жир и пил его с удовольствием, после чего даже облизывался.
— Ну нет, мои молодые пациенты, вы у меня не отвертитесь от рыбьего жира. Этот номер не пройдет!
Мы покорно уселись рядом на стулья, понимая, что отвертеться от рыбьего жира не удастся. Вася принес из кухни бутылку с тошнотворно-желтой жидкостью, достал из буфета серебряную столовую ложку, один лишь блеск которой вызывал отвращение не менее сильное, чем вид самого рыбьего жира, вынул пробку, обернутую промасленной бумагой, налил прозрачно-тяжелую омерзительную жидкость в ложку, заблестевшую в его опытных руках еще более тошнотворно, подошел ко мне, стиснул меня коленями, чтобы я не улизнул, велел открыть рот и заставил выпить полную ложку рыбьего жира; то же самое с грубым проворством военного хирурга он проделал с Сашей, у которого даже уши побелели от омерзения, а Женька с явным удовольствием выпил рыбий жир и облизнулся.
И лишь после этого Вася, дав нам на закуску по кусочку черного солдатского хлеба с селедкой, уселся за пианино и весело отбарабанил кекуок, матчиш, а также весьма популярную после русско-японской войны «Китаянку».
«…был, бедняжка, ранен тяжко и к японцам в плен попал. Там влюбился он в смуглянку — кита-кита-кита-кита-китаянку…» и т. д.
Это сразу внесло в дом бесшабашное веселье. Люди двигались в чаду как тени; глаза слезились; на столе соблазнительно виднелась закуска к блинам: тертый швейцарский сыр, мисочка расплавленного коровьего масла, другая миска со сметаной, разделанная селедка с перламутровыми распластанными щечками, красная икра и очень соленая багровая кета из реки Амур, появившаяся в продаже после войны. Красная икра и кета стоили очень дешево, заменяя в небогатых домах черную паюсную икру и семгу, которую мы никогда не покупали: не по карману!
Зато папа купил копчушек в лубяном плетеном коробке. Это были соблазнительно-золотистые копченые рыбки, главная прелесть которых заключалась в том, что их надо было, прежде чем подавать на тарелке к столу, облить спиртом и поджечь; когда спирт догорал желтовато-голубым пламенем, шкурка с рыбок снималась очень легко — сама собой! — и папа очень ловко проделывал эту операцию, обнажая душисто-продымленную плоть рыбьего суховатого мясца, такого вкусного, что от него трудно было оторваться, как от семечек.
Таким образом, к блинному чаду примешивался волшебный запах горящего спирта и теплый запах самих копчушек, что в соединении с «Китаянкой» и посеревшим, заметно осевшим снегом Куликова поля, видного в окна, именно и составляло сущность праздника под названием масленица.
Когда же из кухни в столовую вносились высокие стопки дымящихся блинов, каждый из которых как бы представлял лунную поверхность с кратерами, и Васе — в виде исключения — папа наливал из специального гостевого графинчика граненую рюмку водки, а Вася опрокидывал ее со столичным военно-медицинским шиком в свой румяный под черными усиками рот, и мы все начинали накручивать на свои вилки ажурные блины, макая их попеременно то в расплавленное масло, то в прохладную сметану, и мазать их крупной красной икрой, шарики которой так вкусно лопались на зубах, источая клейкую жидкость зародышей кеты, а зимние окна постепенно синели, неуловимо предвещая чем-то грядущую весну, и зажигали лампу, и папа виртуозно обдирал копчушки, то становилось на душе хорошо и весело и радовало, что две двоюродные семьи живут так дружно, хотя и в противоположных концах города, так любят друг друга, и это чувство охватывало наши души, и тетя от всей души целовалась с француженкой Зинаидой Эммануиловной, настолько обрусевшей, что даже привыкла к блинам, от которых на ее темных усиках белели следы сметаны, и она говорила резким голосом ученого попугая комплименты тетиным блинам:
— Кароши блины! Ах! Очень кароши! Настоящие, как у нас говорят" крэп дентель! Кружевные!
Вася снова садился за пианино и, повизгивая немазаным винтом табурета, с огоньком и восклицаниями, посматривая на тетю, играл «Ой-ра».
— Ой-ра! Ой-ра!
…мне в душу закрадывалось подозрение, что Вася тоже был поклонником тети…
«Был, бедняжка, ранен тяжко и к японцам в плен попал!»
Падающие звезды
В темную, безлунную августовскую ночь мы иногда шли к обрывам и, хотя там была вбита в землю скамеечка, предпочитали рассаживаться прямо на теплой, еще не успевшей остыть степной земле, поросшей ромашкой, полынью, чебрецом и многими другими душистыми травами. С обрыва открывалось темное море, на черном горизонте которого слабо светилась не то звезда, не то огонек на мачте невидимого парохода, уходящего за край траурной полосы между водой и небом.
Самое привлекательное в этих непроглядно-черных теплых ночах — перед началом нового учебного года — было то, что, всмотревшись в окружающую тьму, глаз обнаруживал множество источников таинственного свечения: то в кусте дикой маслины, озаряя своим янтарно-зеленым безжизненным светом всего лишь какую-нибудь ничтожно малую часть серебристо-суконного листика, вдруг появлялась капелька светлячка; то где-то неизмеримо далеко в степи, за скифским курганом, еле различимым на фоне неба, можно было рассмотреть искру цыганского костра; то внизу на песчаный берег у подошвы обрыва набегала длинная ночная волна, окаймляя берег светящейся кружевной пеной, — это фосфорилось море.
В черном небе среди довольно крупных, хорошо нам знакомых созвездий Северного полушария и раздвоенного рукава — как бы небесной дельты — Млечного Пути светились миллиарды звезд, наполняя небо серебристым песком, пылью, фосфорическим дымом, при свете которых степь и море хотя и оставались темными, но все-таки таинственно мерцали, и воздух был напоен тончайшим эфирным свечением, в котором вдруг проносилась летучая мышь, похожая на дубль-ве (w), или трепещущие ночные бабочки, как бы сеющие вокруг себя серую пыльцу, или двигались силуэты пограничников, совершающих свой ночной обход, и степь вокруг была наполнена хрустальным звоном сверчков.
Мы ложились на теплые травы лицом вверх и закладывали руки за голову — папа, Женя и я. И еще несколько мальчиков и девочек из немецкой экономии.


























