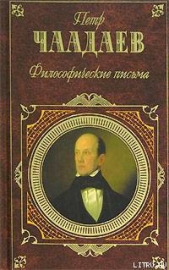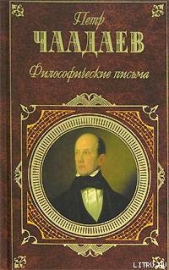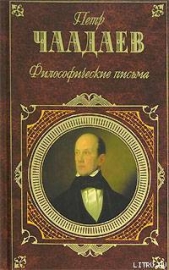Чаадаев
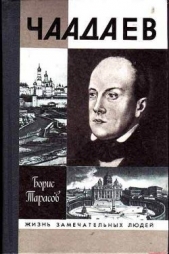
Чаадаев читать книгу онлайн
Жизнеописание выдающегося русского мыслителя Петра Яковлевича Чаадаева основано на архивных материалах. Автор использует новые тексты (письма, статьи, заметки, записи на полях книг), черновики и рукописи философа, а также неизданную переписку его современников и неопубликованные дневники его брата. Сложный и противоречивый путь нравственных исканий Чаадаева раскрывается в контексте идейных, литературных и социальных течений первой половины XIX века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Дела искусства определяются а еще одной особенностью времени, когда — парадокс! — «уснувшее человечество» «бежит опрометью, никто не стоит на месте». Подобно Чаадаеву, Гоголь озадачен галопирующей сменой разных веяний и тенденций в скачках бурной эпохи. Сегодня гегелисты, завтра шеллингисты, потом опять какие-нибудь «исты», замечает писатель, подчеркивая, что быстротечная смена модных идей лишь усиливает «дух нестроения» во времена борьбы старого с новым и еще более усыпляет способность человека видеть жизнь в абсолютных измерениях. Умножение различных начал, из которых строится жизнь, несходство верований, образования и воспитания и т. п. приводят к развитию разнородных и противоречивых сил, каждая из которых принимается за панацею от всех бед. Отсюда, продолжает Гоголь, происходит необдуманное стремление преобразовывать, исправлять и вообще торопиться с выводами и средствами в борьбе против зла. Такая торопливость определяет самоуверенную односторонность, приводящую к ущербности духовного зрения (а то и к фанатизму) во всех сферах общественной деятельности.
Люди начали было думать, что «образованием выгонят злобу из мира, а злоба другой дорогой, с другого конца входит в мир — дорогою ума». Никогда, замечает с горечью писатель, гордость ума не возрастала в такой степени, как в девятнадцатом веке, когда человек во всем сомневается, кроме своего ума: «Чего не видит его ум, того для него нет. Он позабыл даже, что ум идет вперед, когда идут вперед все нравственные силы в человеке, и стоит без движения и даже идет назад, когда не возвышаются нравственные силы. Он позабыл и то, что нет всех сторон ума ни в одном человеке; что другой человек может видеть именно ту сторону вещи, которую он не может видеть, и, стало быть, знать то, чего он не может знать. Не верит он этому, и все, чего не видит он сам, то для него ложь… Уж ссоры и брани начались не за какие-нибудь существенные права, не из-за личных ненавистей — нет, не чувственные страсти, но страсти ума начались: уже враждуют лично из-за несходства мнений, из-за противоречий в мире мысленном. Уже образовались целые партии, друг друга не видевшие, никаких личных отношений еще не имевшие — и уже друг друга ненавидящие…»
Все сословия, продолжает писатель, перессорились точно кошки с собаками, и даже честные люди оказались в раздоре: «Только между плутами видится что-то похожее на дружбу или соединение». Почему же, несмотря на полуторастолетнее заимствование европейского просвещения, спрашивает Гоголь, раздирается его сердце от заунывных звуков тоскливой русской песни в пустынных и бесприютных пространствах? Отчего «неприветливо все вокруг нас, точно как будто мы до сих пор еще не у себя дома, не под родною нашею крышей, но где-то остановились бесприютно на проезжей дороге, и дышит нам от России не радушным, родным приемом братиев, но какою-то холодною, заснеженною вьюгою почтового станцией, где видится один ко всему равнодушный станционный смотритель с черствым ответом: «Нет лошадей!» Отчего это? Кто виноват?»
В подобных вопросах слышатся интонации первого философического письма. Чтобы ответить на них, надо, по мнению Гоголя, честно выявить все скрытые противоречия и разнородные начала современности и спокойно осмотреть их «многосторонним взглядом старца… Мы ребенки пред этим веком. Поверьте мне, что вы и я равно виноваты пред ним». Эти слова выражают убеждение Гоголя, что каждый человек виноват в распространении зла в мире в меру отсутствия всеобъемлющей мудрости, света в собственной душе, бескорыстной любви к людям. Виноват пропагандист высоких истин, невольно обращающий их от частого повторения в общие места, которым уже не верят. Виноват литератор, искренне проповедующий добро и находящийся под влиянием страстных увлечений, досады, гнева, группового или личного нерасположения к кому-либо и тем самым вызывающий не всегда и не сразу заметный обратный эффект. Еще более виноваты они оба, когда показывают пример несогласованности знания и жизни, слова и дела, которая, по убеждению писателя, более всего развращает нравственное сознание окружающих и обрекает на провал самые высокие, самые гуманные начинания. «Стань прежде сам почище душою, а потом уже старайся, чтобы другие были чище», — обращается он к сеятелям разумного, доброго, вечного, чья проповедь тогда станет не только полезнее, но и мудрее.
Писателя мучила мысль, что и его творчество несет элементы несовершенства и порождает тем самым косвенные преступления, когда будоражит собственное тщеславие, вызывает зависть литературных соперников, провоцирует споры почитателей и хулителей. Мы виноваты, вы виноваты, ты виноват, я виноват, говорил Гоголь современникам, что не можем пока увидеть «нашу русскую Россию, не ту, которую показывают нам грубо какие-нибудь квасные патриоты, и не ту, которую вызывают к нам очужеземившиеся русские, но ту, которую извлечет она из нас же и покажет таким образом, что все до единого, каких бы ни были различных мыслей, образов воспитания и мнений, скажут в один голос: «Это наша Россия; нам в ней приютно и тепло, и мы теперь действительно у себя дома, под своей родной крышей, а не на чужбине».
Велик был нравственный запрос Гоголя прежде всего по отношению к самому себе, неразрешима, как писал Чаадаев, «задача невозможного примирения добра со злом». Проповедь абсолютно нравственного подхода к жизни при окончательной неустроенности собственной души порождала не только искреннюю исповедь, но и высокомерные поучения, школярское отчитывание ближних, фарисейское морализаторство. Подобные противоречия затрудняли точное восприятие «Выбранных мест из переписки с друзьями», возбудивших общество не менее «телескопского» письма Чаадаева.
По свидетельству Шевырева, «в течение двух месяцев по выходе книги Гоголя она составляла любимый живой предмет всеобщих разговоров. В Москве не было вечерней беседы, где бы не толковали о ней, не раздавались бы жаркие споры, не читались бы из нее отрывки». Толки были самые разные: говорили о саморекламе и тщеславии автора, о его неискренности и склонности к мистификации, о низкопоклонстве и даже, как когда-то с Чаадаевым, о сумасшествии. Отдельные из подобных замечаний были верны в частных приложениях, при взгляде на книгу Гоголя как на бессвязное соединение общих мест и морализаторских предписаний. Но в ней заключалось и внутреннее единство, которое и являлось для Чаадаева ключом к пониманию «Выбранных мест из переписки с друзьями». Именно оно помогало «басманному философу», несмотря на прежние духовные недоразумения, искать и находить, в отличие от многих современников, пути к их правильному пониманию. Петр Яковлевич видел в необычном сочинении Гоголя определенную и близкую ему строгую иерархию, где личная боль и самоанализ обусловлены заботой об общем деле, о должном предназначении искусства и литературы, а общее дело вытекает из высших и абсолютных представлений о бытии и судьбах человеческого рода. Искренность и подлинность этой целостной соподчиненности в книге не вызывали у него никакого сомнения.
Читатели и почитатели прежнего Гоголя, замечал Чаадаев в ходившем по рукам письме к Вяземскому от 29 апреля 1847 года, так озлоблены против него, словно не могут простить ему перехода от чисто художественного творчества к прямой нравственной проповеди и исповеди. Но ведь художник не частный человек, ему невозможно и не должно скрывать свои самые заветные чувства, и Гоголь стал говорить о них «по вековечному обычаю писателей, питающих сознание своего значения». Не одним словом, но и душой, продолжал Петр Яковлевич, писатель «принадлежит тому народу, которому посвятил дар, свыше ему данный». И читателю следует объективно оценить, как Гоголь распорядился этим даром в своей проповеди, в которой «при слабых и даже грешных страницах есть страницы красоты изумительной, полные правды беспредельной». Надо понять «необходимость оборота, происшедшего в мыслях автора», уяснить значение его попытки «сказать нам доброе и поучительное слово», определить важность его книги «в нравственном отношении».