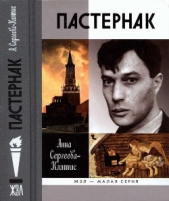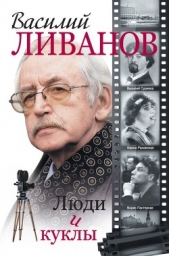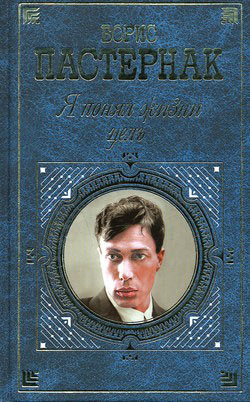Годы с Пастернаком и без него

Годы с Пастернаком и без него читать книгу онлайн
Свою книгу «Годы с Борисом Пастернаком» Ольга Ивинская завершает словами: «Любимый мой! Вот я кончаю работу, завещанную тобой. Прости меня, что написала ТАК; я не могла и никогда не смогла бы написать на уровне, которого ты достоин… Большая часть прожитой сознательной жизни была посвящена тебе, как будет посвящен и ее остаток…»
В этой книге впервые объединены мемуары О. Ивинской (в сокращенном виде) и ее дочери И. Емельяновой о Борисе Пастернаке. В книгу также вошли воспоминания Ирины Емельяновой об Ариадне Эфрон, о Варламе Шаламове. Впервые публикуются эссе «Парижские этюды» И. Емельяновой и фрагменты из ее «Записных книжек».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но фантомы уже поселились в этой квартире и расположились в ней по-хозяйски.
Как-то была она у нас в гостях. Пасхальный обед, куличи, гости, русские разговоры. Марьяна была, как всегда, элегантна (платочек зеленый выглядывал из карманчика, и носик напудрен, и на каблуках), остроумна. Хотя все чаще звучало ее знаменитое «Врэман? Мэ сэ па врэ!» (Правда? Не может быть!) Эта гениальная формула, годная на все случаи жизни, очень долго ее выручала — вроде ты всегда в курсе беседы. Я и сама взяла ее на вооружение. И вдруг внезапно засобиралась, вскочила: «Нет-нет, мне пора, сестра приехала, она такая дикая, из комнаты не выходит, нельзя оставлять ее долго одну». — «Сестра? Сусанна Львовна? И вы ничего не сказали?!» — «Да-да, приехала, вместе с литовкой, ее соседка, она одна боится. Ведь — дитя революции, так трудно она росла».
Она и до этого рассказывала мне о сестре, употребляя это забавное выражение «дитя революции». Сестра родилась такой маленькой (1920 год!), что даже уже годовалая умещалась в кукольное пальто. А сами куклы были проданы, с ними прощались, «Поцелуйте Тэдди». Восьмилетняя Марьяна запихивала сестру в кукольную коляску и везла в американскую «Каплю молока», там подкармливали.
— А что взрослые ели? Нянина родня привозила из деревни молоко. Маме — матросы хлеб и дрова. Забыть не могу, как я съела топленую пенку и свалила на дедушку, а он и понятия не имел, а папа — он легкий был, веселый, а тут вдруг набросился на дедушку: «Папа, признайся!» А я промолчала… А потом дедушку отдали в дом для престарелых актеров, он недолго там прожил. Я бегала к нему по воскресеньям, он для меня берег хлеб с маслом, и там я ему призналась про пенку. А Сусанна… Конечно, она тоже недоедала, росла очень нервной, вот и сейчас, не знаю, как вас познакомить.
— Когда же она приехала? А почему я никогда не видела ее чемоданов? И почему она никогда не подходит к телефону?
— Дикая, я же сказала — дитя революции. Всего боится. И без вещей приехала. Все время ворчит. Страшно грубая. Нет, ее долго нельзя одну оставлять.
Не слушая наших упрашиваний, накидывает пиджачок — и вот уже стучит каблуками по двору. А на диване — забытая пудреница и ключи. Я выбегаю вслед за ней и нагоняю у метро.
Не знаю, как для кого, а для меня одно из самых тяжелых видений — возвращение старика в пустую квартиру. Вот она входит, зажигает свет… Но ведь она не одна! Там сестра.
— Так она ждет вас? Выходит из комнаты?
— Да, выходит. Мурлычет. Трется у ног…
Третья нога была правдой. Но мурлыкающая сестра… А потом пошло все быстрее и быстрее. «Позвонить Пете», «Шведы ждут моих моделей [она всю жизнь рисовала эскизы для дома моделей]», «В моей квартире живет какая-то мадам Антуан», «Пошла купить Ольге Всеволодовне [моей маме] сыру, а магазин сгорел», «И почему, почему в этом городе нет ни автобусов, ни метро?!» И вот, наконец, теперь: «Это очень недурной отель. И кормят неплохо, научились».
Пока мы были на крыше, в «недурном отеле» снова накрыли на стол, подкатывают кресла с «постояльцами», подвязывают кому слюнявчики, кому какие-то целлофановые мешки. Марьяна с удовольствием занимает свое место. Все, и общество, и сервировка, ей нравятся. Оживленно говорит по-русски, объясняет, какой сыр любил папа. Певшая романсы бывшая красавица недовольно бурчит: «Мы же все-таки во Франции!» Марьяна надменно вскидывает головку: «Врэман? Мэ сэ па врэ!»
В семь укладывают спать. В комнате Марьяны на второй кровати уже лежит бывшая певица. Марьяна обреченно вздыхает: «Не может мне простить, что вызвала ее сюда. В Литве ей было лучше. Видите, как недовольна…» Прощаясь, отказываюсь от заботливого «Зонтик, зонтик возьмите, ведь вам далеко, душка, а тут ведь ни автобусов, ни метро, странное место». Прохожу мимо Франсуазы, она остается дежурить на ночь, улыбается приветливо. Марьяну любят здесь, да и она сама часто, как присказку, повторяет: «Французы? Они хорошие, хорошие!» — «А немцы?» — «Немцы вообще чудные! Почти совсем как русские!» — «Да что вам эти русские! Сколько горя от них!» Задумывается. «Русские… они — ласковые». Чудные, хорошие, ласковые, и отель неплохой, и повар старается. Воистину — как аукнется, так и откликнется.
А вот уже и лето на дворе, душный парижский июль, улица Антрепренер забита вылезшими на тротуар столиками. У того же цветочника покупаю розу, а пирожное уже не беру — жарко, крем тает. На крыше гулять в такую погоду она не хочет. Встречает меня страшно озабоченная, с каким-то саквояжем в руке. «Ах, как хорошо, душка, что вы приехали. Надо собираться, мама ждет, если не приеду, она будет плакать. Я ведь для нее все еще Марьяшечка, Милушечка, надо обо всем переговорить, она хочет все знать о Париже, чем здесь увлекаются, что носят. И мой шезлонг под акацией уже стоит, и яблоки в саду поспели. Мама пишет, папа целый день в саду, но посадил какие-то ужасные бегонии. Он тоже ждет, у него на столе стоят все наши карточки, а для моей он сделал новую рамку… Мама считает, что я самая благополучная, замужем, в Париже, работаю. А Суся плохо учится (папа даже сказал как-то, что не все обязательно должны ходить в школу), ей все время ищут учителей, а в Каунасе это трудно, только мадам Балтрушайтис говорит по-французски как парижанка, но она все время в отъезде. А Ириша, бедная, совсем больна, ее надо послать в клинику к профессору Борелю, я уже договорилась с ним, хотя это очень дорого. Папа работает сверх силы, стал худой, черный какой-то и все молчит. Ведь мама была очень недовольна, что приехали в Литву, до сих пор давит на папу, чтоб вернуться во Францию. А он все отмалчивается, только один раз сказал, что надо жить так, как вышло, и ничего не ломать… Он-то легко мирился с переменами».
Я слушаю ее и понимаю, что это все не выдумки, не «кот», все правда, только это было давно, очень давно. После ее смерти я открыла отданную мне на сохранение коробку с надписью «мамины письма» и среди аккуратных, переложенных закладочками пачек нахожу и эти — о грибах, об антоновской яблоне, о шезлонге под акацией и о папе, которого надо щадить и обходить тяжелые для него вопросы, а она, мама, не умеет. Но все это было в 1936 году…
Судя по этим письмам, все в Литве Лидии Николаевне Кузнецовой, по бабушке Хомяковой, репинской «даме с птицей», не нравилось. «Жить я здесь не могу и не хочу». «Папа от всех этих разговоров только худеет на глазах и молчит». И добирались до Каунаса, куда пригласили его профессорствовать в 1928 году, со всем скарбом, с детьми, с песиком Тютькой — ужасно. До Вирбалиса все было ничего, а там, на границе, оказалось, что нужно опять брать билет для Тютьки, а когда билет уже взяли, выяснилось, что нужна справка от кламарского ветеринара о состоянии Тютьки и всей местности в смысле «безопасности от заразы бешенством», да еще надо внести пошлину за его въезд в страну! Денег не оказалось, поезд ушел, Тютьку предлагали послать назад во Францию или оставить в клетке в карантине… «Пока, — пишет возмущенная мама, — я не сказала, что я жена профессора Карсавина. Тут мигом все изменилось. Приехал папа, перед ним все сняли шапки, а меня стали барыней называть, словом, страна рабская».
Она, парижанка, оказалась в страшной дыре, где овощи только как в России — брюква, свекла, капуста. Бананы дороги, апельсины бывают редко, а литовцы — «народ мрачный, застенчивый и деликатный, но, главное, унылый». И город, хотя дом стоял в зеленом саду, показался некрасивым, запущенным, все резало сердце, напоминало Россию. «Тут, в Литве, много есть поводов к тяжелым воспоминаниям — в остатках быта, и в нравах, и в самих предметах, и в виде улиц, домов, жалких лавочек, деревянных лестниц, в удушливом запахе сырого, гниющего дерева». Тяжелые русские воспоминания оживают: «А Россия-то наша какая мрачная! И русские люди все с каким-то вывертом и мрачные, как и я…»
Но пришла она, «замена счастию», привычка, и вот уже «дом у нас — полная чаша», и «папа варенья наварил, малины, смородины», и общество появилось, и верховая езда, и туалеты. И прислуга «хотя и литовка», но очень милая, на папин день рождения так элегантно прислуживала, в кружевных перчатках с оборочками (прилагается рисунок перчаток), и курорт Нида — как Нормандия, только красивее… А сад, сад — и зимний, и осенний, и цветущий — описывается без конца. «Папа все время в саду, он сам его усыпал гравием, нанес песку. Хотя внутренне тут папа очень одинок, несмотря на очень дружеское и НАСТОЯЩЕЕ отношение к нему. Он тут всеобщий любимец, и им гордятся — и студенты, и профессора. А его спорое овладение языком ставят в пример не только с кафедр профессора, но и в печати. Но он очень грустный всегда и такой озабоченный…» Да, тяжело, очень тяжело было в доме, и всамделишные, невыдуманные эти страдания. Стареющая, тоскующая, страдающая за детей женщина, во все, даже в приготовление именинного кренделя, вкладывающая и душу, и талант. Страдание за мужа, что он все-таки в глуши, и могли бы больше ценить, что вечно не хватает денег, что любимая дочь далеко, а другие дочери трудные — больная Ириша, угрюмая Суся. В доме царит молчание, никто друг с другом не разговаривает, «нет ни общения, ни разрыва», как пишет она. Душа мечется, болит беспрестанно, но эта боль может еще выражаться в словах, в длинных, всегда завершенных фразах, написанных безукоризненным почерком, выбираются определения и причастия, элегантно, в углу страницы выписываются даты (даже дни недели — 24 ноября, суббота), соблюдаются яти, еры, не экономятся все эти точки с запятой, многоточия, тире. Для этой боли и этой жизни есть человеческая форма, она рассчитана на сочувствие и изживаема. Но вот когда на этот хрупкий и изысканный, такой женственный и уязвимый мир надавило кровавое, раздвоенное чертом копыто, расквасив заодно и сочную, веселую травку, этих беглецов приютившую, только потому, что легла она у большевистского стада на дороге, — тогда уже наступает безмолвие. Ни одного звука, ни одной запятой не долетает из «освобожденной Литвы». Поистине есть время, когда молчание страшнее жалоб и слез. (Недаром Цветаева, десятилетиями многостранично стенавшая в своих письмах, в последний год в России почти онемела.)