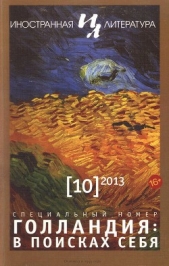На дне блокады и войны

На дне блокады и войны читать книгу онлайн
Воспоминания о блокаде и войне написаны участником этих событий, ныне доктором геолого-минерал. наук, профессором, главным научным сотрудником ВСЕГЕИ Б. М. Михайловым.
Автор восстанавливает в памяти события далеких лет, стараясь придать им тот эмоциональный настрой, то восприятие событий, которое было присуще ему, его товарищам — его поколению: мальчикам, выжившим в ленинградской блокаде, а потом ставших «ваньками-взводными» в пехоте на передовой Великой Отечественной войны.
Для широкого круга читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но, в конце концов, это оказалось «злом не так большой руки». Нашли писаря, составили списки и довольно быстро получили спирт, а что касается старшины, то о нем надо рассказать особо, ибо сам старшина до конца войны старался умалчивать о своих похождениях.
Старшина отсутствовал около месяца. За это время он сумел выбраться из-под танковых гусениц и пешком добраться до Дуная. Но это полдела. Вдоль всего противоположного (левого) берега Дуная «на смерть» стояли наши доблестные заградотряды СМЕРШ, имевшие приказ расстреливать любого солдата, пытавшегося переправится через реку, чтобы спастись от немцев. Наш старшина сумел усыпить бдительность заградотрядов, оказаться на другом берегу, там где-то спрятаться, не попасть в штрафбат и, выйдя «сухим из воды», как ни в чем не бывало, с двумя флягами спирта оказаться в роте! После этого случая старшина получил прозвище «задунайский».
А что же было после Бадьома?.. Во первых, мы проходили через Вереб. Про ту кузницу нам уже все рассказали (правда, не так красочно, как это сделано у ветеранов 93 сд.). Кузница стояла чуть на отшибе. Я, естественно, не мог не заглянуть туда. Все заходили («хлеба и зрелищ!»). Не помню ни крови, ни мозгов. Все это, если и было, то к нашему приходу уже покрылось грязью и снегом. А главное, не помню потому, что в углу кузницы за какими-то ящиками я нашел настоящий эсэсовский ремень с медной пряжкой и вытесненной на ней надписью «Gott mit uns».
Сейчас можно бы было сказать: если этим ремнем немецкие изуверы избивали наших раненых солдат и если в то время Бог был с ними, то мне с таким Богом не по пути. Но тогда… Ремень был большой, тяжелый и очень фашистский. Я его помыл, почистил и долго еще хвастался.
А во-вторых… «Во-вторых» не будет, ибо рассказ и так затянулся, пора кончать.
Или нет, не могу все-таки напоследок не лягнуть танкистов (хотя они нас и освободили).
Когда среди фронтовиков заходят разговоры о военной пехоте, всегда найдется кто-нибудь, кто скажет: «А что пехота, не она одна воевала. Сколько гибло летчиков, сколько сгорело танкистов…» Да, все это было.
Но, что такое война для танкистов?
Сразу после Бадьома мне рассказывали про освободивших нас танкистов 23-го танкового корпуса (что слышал, то и пишу, не проверял): 10 месяцев назад, весной 1944 года в боях за Правобережную Украину танковый корпус потерял почти все танки. Фронт ушел за границу, а корпус отправили в Полтаву получать пополнение и технику.
В то время, когда пехота мерзла, мокла и гибла в тяжелейших наступательных боях за Балканы, личный состав корпуса более полугода (до отправки в Венгрию), как сыр в масле, катался по Полтаве. Правда, полтавские девчата наградили многих корпусных донжуанов триппером и сифилисом, в свою очередь подаренными им немцами, но это уже не в счет.
Так кому же было лучше?
В заключение попробую разобраться с датами.
Итак, нас освободили в самом конце января. До марта, когда начнутся бои на юге, еще целый месяц. Где мы в это время побывали и что делали?..
Из-под Будапешта снова на юг нас увозили не сразу, ибо опасность прорыва немцев к окруженной в Будапеште группировке сохранялась до 13 февраля когда Будапешт был наконец-то взят! Именно взят, и именно 13 февраля, поскольку на полученной мною медали выбито: «За взятие Будапешта», и на обороте — 13 февраля.
По всей вероятности, несмотря на почти полную небоеспособность, наш полк всю первую половину февраля наперекор всему продолжал воевать. Ведь кем-то надо было латать дырявую линию фронта.
Мы бредем по дороге час, другой, третий. Слякоть. Солдатские обмотки в грязи по самые завязки. Да и в офицерских кирзачах можно выжимать портянки, выпуская из них коричневый настой вонючего пота на ледяной воде. Со вчерашнего дня ничего не ели. Батальонные кухни заблудились и застряли на проселках…
Входим в село. Голова колонны остановилась. Слева за домом что-то хрюкнуло. Солдаты оживились. Один из них исчез и почти сразу за домом послышались выстрелы, свинячий визг, приглушенная автоматная очередь. И вот уже тяжело кряхтя, под общее улюлюканье и смех (куда пропало уныние!) солдаты выволакивают на дорогу здорового кабана: налетай, кто хочет! А в голове колонны уже слышится: «Шагом м-а-а-арш!» Около свиной туши торопливо работают солдаты, отрезая ножами и заворачивая в тряпки куски свежего мяса и сала… «Подтянись!» «Догоняй!»…Добрая половина кабана брошена, втоптана в грязь.
К вечеру вместо долгожданного отдыха колонна напоролась на немцев.
«Стрелковые роты, в цепь!»
А стрелковых рот нету! Заросшие щетиной, замызганные, промокшие до мозга костей и донельзя усталые небольшими группками стоят изгои войны — пехотинцы. Это им — «Вперед!» — окопаться перед деревней в холодной зимней грязи и всю ночь, не смыкая глаз, охранять тех, кто поселится в деревенских домах: связистов, артиллеристов, штабных работников и пр. и пр. Нам до них вроде и дела нет. Мы занимаем большой богатый дом. Во дворе ставим минометы, готовим мины. Наиболее проворные номера уходят на поиски еды. Тихо без искр затапливается плита. И вот уже над ней парят портянки, обмотки, по комнатам расползается привычный терпкий дух махорки, сырых шинелей и давно не мытых солдатских тел. Наша поредевшая в последних боях рота уместилась в одном доме. Тепло. Сыро. Душно. Скоро можно будет «вешать топор»… Клонит ко сну…
— Лейтенант Михайлов, к командиру роты!
Явно не к добру. Грешнов только что вернулся из штаба батальона. Не глядя на меня, он зло бросает: «Бери первый миномет, двадцать мин и уходи на ночь. Вот тебе карта». Спорить бесполезно. За меня уже все решили.
Это значит, минометный расчет (6 человек) всю ночь будет блуждать вдоль передовой линии, выпуская с разных мест по 2–3 мины и создавая тем самым видимость крепкой обороны. На самом деле никакой обороны нет. На наших (батальонных) двух-трех километрах советско-германского фронта кучками по три-четыре человека расставлены солдаты «на расстояние голосовой связи». Но какой дурак ночью будет орать, навлекая на себя немецких разведчиков, заранее ознакомленных с местностью.
Злые и голодные, мы ушли. Моросивший весь день мелкий дождик перешел в изморозь, а затем в снег.
Слабо ориентируясь на местности, мы отошли от деревни метров восемьсот и на глазок пустили в сторону немцев три мины. Отошли в сторону. Притаились. Еще три мины, и… прямо над головами лихорадочно замелькали трассирующие пули немецкого пулемета. Легли. Двоих послали на разведку. Вскоре они вернулись: впереди слева— канал метра три ширины и вдоль него блиндажи, соединенные траншеями. Никого. Мы туда. Выставили охранение, не торопясь оборудовали минометный окоп и, почувствовав безопасность, пустили следующую очередь мин. Снег перестал. Тихо. Уже середина ночи. Все забились в тесную полу развалившуюся землянку, оставив у миномета Петрова— надежного уже пожилого москвича, появившегося недавно у нас после госпиталя. Солдаты задымили козьи ножки, сразу разомлели.
Я сидел ближе всех к выходу и первый услышал резкий и глухой, будто испуганный выстрел. Сразу выскочил в траншею: «Петров!.. Петров!..» Тишина. «Петров!!» Совсем рядом метров с 15–20 на мой крик ударила автоматная очередь. Я упал. Ползком добрался до землянки. Схватил автомат, и не вылезая, как из «кривого ружья», в разные стороны выпустил весь рожок. Вставил другой. Солдаты один за другим выскакивали из землянки, стреляя на ходу. Я выполз тоже и затаился, держа палец на спусковом крючке. От минометного окопа к каналу мелькнула тень. Я прижался к стенке и дал длинную очередь. В ответ на нее уже из-за канала полетели гранаты. Одна… другая… третья. Я упал на дно. Одновременно боль резко ожгла и царапнула по правой икре, повернул голову: кирзовое голенище разрезано будто ножом и оттуда торчит клок белой портянки. Опять повалил мокрый снег.
Солдаты рассредоточились по траншее и вразнобой стреляют в противоположный еле видимый сквозь снежную пелену берег. Я достал из кармана лимонку. Зажал в руке. Выдернул чеку. Прислушался. За каналом что-то зашевелилось. Бросил туда гранату. Разрыв, и я быстро на корточках пополз к миномету. Там уже толпились солдаты. Петров сидел, прислонившись к стенке окопа. Карабин был зажат между колен, а голова чуть откинута назад. Нигде ни одной кровинки, лишь во лбу над переносицей еле чернела маленькая дырочка. На берегу канала, уткнувшись головой в воду, кто-то лежал. Я посчитал — наши все, значит немец. У нас двое раненых. Один легко в руку, другой — лежит и стонет. Его кладут на плащ-палатку. Я беру минометную трубу (19 кг 600 г!) и, оставив в окопе Петрова, плиту, двуногу, сначала ползком по траншее, а потом бегом-шагом мы уходим в деревню. Светает…