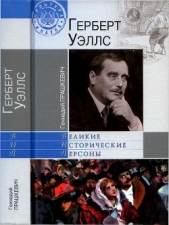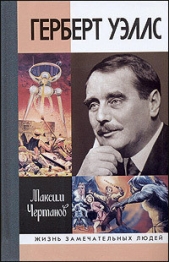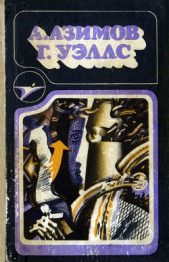Опыт автобиографии

Опыт автобиографии читать книгу онлайн
Приступая к написанию воспоминаний, автор и не подозревал, какое место в его творчестве они займут. Поначалу мемуары составили два тома. Со временем к ним добавился еще один, «Влюбленный Уэллс», — об отношениях с женщинами. В результате «Опыт» оказался одной из самых читаемых книг Уэллса, соперничая в популярности с его лучшими фантастическими романами.
В книге содержатся размышления не только над вопросами литературы. Маститый писатель предстает перед нами как социолог, философ, биолог, историк, но главное — как великая личность, великая даже в своих слабостях и недостатках. Горечь некоторых воспоминаний не «вытравляет» их мудрости и человечности.
«Опыт автобиографии» — один из важнейших литературных документов XX века.
На русском языке публикуется впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
После этого отступления вернемся к 1894–1895 годам, точнее — к тому, как я ходил на Саутгэмптон-стрит, брал у Харриса и Бланчампа книги на рецензию, садился в кеб и вез эти охапки к себе, на Морнингтон-роуд. Дома я устраивался за столом, мы с Джейн вымучивали рецензии, хотя огонек писательской изобретательности порою едва чадил, и первоначальный вариант отправлялся в корзину.
Я был бодр и полон надежд. Хенли принял «Машину времени», согласился заплатить мне 100 фунтов и рекомендовал ее издателю Хайнеману. Это сулило мне еще по меньшей мере фунтов пятьдесят. Книга должна была выйти весной, и я превратился бы из журналиста — причем «внештатного» и безымянного — в настоящего писателя. Поговорили о рассказах с Метьюэном, а Джон Лейн предлагал мне издать сборник статей, хотя заплатить собирался всего 10 фунтов. Но главное, я пошел в гору. Теперь обо мне напишут, хотя бы о «Машине времени», и уж точно похвалят. Если бы мне удалось выпустить следующую книжку еще до того, как утихнет первый шум, я мог бы сказать определенно, что утвердился как писатель и уже не сверну с этого пути, и могу спокойно писать дальше, не гоняясь за «идеями» и не рецензируя чужие сочинения.
В своем архиве я откопал «ка-атинку», запечатлевшую рождественский ужин в 1894 году. От первого года нашей жизни с Джейн их осталось совсем немного. Рисовал я тогда не столь уж часто, а она, пока у нас не появился дом и место для хранения, творения мои не собирала. Ранние рисунки — не особенно умелые и точные. Здесь изображена наша рослая хозяйка (дай ей Бог!), которая в последний раз окидывает взглядом стол, накрытый для меня, Джейн и миссис Роббинс. На блюде, несомненно, индейка; детали, впрочем, не слишком проработаны. Наблюдательный читатель заметит раздвижные двери. Заметит он и непонятный черный предмет слева от Джейн. Это, как ни странно, черный графин, а в нем — вино (не знаю, продают ли его в наше время), золотистое вино под названием «Кэнэри сэк». Не уверен, но, кажется, именно его пил Фальстаф. Оно сладковатое, легкое, вроде хереса.
Вино это, даже в несколько большей степени, чем индейка или присутствие миссис Роббинс, подтверждает тот факт, что к концу первого года мы с Джейн ощутили победу в нашем поединке с миром за жизнь и за свободу мысли. Мы серьезно поговорили о наших видах на положение в обществе. Нас уже приглашали, и немало. Нас подстерегали незнакомые блюда и напитки, а Джейн была вскормлена на такой же скудной пище, как я. Из вин мы знали только портвейн и херес и решили пока попробовать все, что найдется в лучших лавках Кэмден-тауна и на Тотнем-Корт-роуд. Мы пили рейнвейн, кларет, то и се — и неудивительно, что мы «орошали» индейку этим «Кэнэри сэк». Теперь, если нам его предложат, мы знали, что к чему. Но нам его так и не предложили. Я пил его зря.
Готовясь к светским визитам, мы обсуждали, куда нам пойти обедать — в гости или в ресторан. В Холборне и в Сохо были недорогие рестораны, где можно набраться хоть какого-то гастрономического опыта.
Мне уже пришлось побывать на грандиозном обеде, «поминках». Хоть это и были настоящие поминки по «Нэшнл обзервер», но называть их так вряд ли стоило, ведь присутствовал новый редактор и владелец, собиравшийся воскресить газету. Были там и Джордж Уиндэм, Натаниел Керзон {197}, Уолтер Сиккерт {198}, Эдгар Винсент (известный в наши дни как лорд д’Абернон {199}), Дж.-С. Стрит {200}, Артур Моррисон {201}, Боб Стивенсон, Чарльз Бакстер (поверенный Стивенсона), Х.-Б. Мэриот Уотсон и многие другие их авторы. Не уверен, были ли там Барри и Киплинг, но и тот, и другой с Хенли сотрудничали. Я, последний из зачисленных в это славное братство, гордо и робко сел подальше — и оказался с краю, а потому именно мне первому предложили неведомую черную массу, какие-то крупинки. Меня позвали развлечься, и, не мелочась, я положил себе побольше. Мой сосед — кажется, Бэзил Томсон — осмотрел черную горку на моей тарелке и заметил:
— А вы любите икру!
— Обожаю, — ответил я.
Оказалось, что это не так, но я съел все, чтобы не поступиться своей гордостью.
Обедали мы у Верри, на Риджент-стрит, и я помню, как в поздний час важно и осторожно вышагиваю по кромке тротуара, чтобы убедиться, что меня не шатает. Если бы передо мной оказался канат, натянутый через бездонную пропасть, я бы, из научного интереса, на него ступил. В конце концов я заключил, что не пьян, а «немного выпил». Литературные притязания завели меня в неведомый мир, полный странных блюд и совсем уж странных напитков. В будущем, думал я, недоверчиво поглядывая себе под ноги, надо быть осторожней.
К счастью, за раздвижными дверями на Морнингтон-роуд в это время спало чудесное, храброе создание, столь нежное и чистое, столь глубоко верящее в меня, что я бы просто не посмел появиться перед ней небритым, опустившимся, пьяным. В свою богемную пору я был таким же трезвенником, как Шоу, хотя и не таким записным.
Помню, один сотрудник Харриса жаловался мне в редакции «Сатердей ревью»: «Сидим мы как-то, прилично набрались… вдруг входит этот Шоу… трезвый, смотреть противно. И как пошел говорить!»
2. Линтон, Стейшн-роуд, Уокинг (1895 г.)
Новый год ознаменовался тем, что я впервые получил постоянную работу в лондонской газете. Каст пообещал, что придержит для меня следующую вакансию, какой бы она ни была, и выпала театральная критика. Меня вызвали в «Пэлл-Мэлл» телеграммой.
— Вот, — сказал Каст и сунул мне в руки два кусочка цветной бумаги.
— Что это? — спросил я.
— Театры. Идите, займитесь ими.
— Хорошо, — сказал я и задумался. — Я бы не прочь попробовать, но должен вас предупредить, что, кроме пантомимы в Хрустальном дворце да Гилберта {202} и Салливена {203}, я был в театре только два раза.
— Это мне и нужно, — отозвался Каст. — Значит, вы не из их обоймы. Пробьете в ней брешь.
— Фрак нужен?
Удивление не входило в его привычки.
— Конечно. В особенности — на завтра, в «Хеймаркете».
Мы вдумчиво глядели друг на друга.
— Ясно, — сказал я и поспешил к одному портному с Чарльз-стрит по фамилии Миллар, который знал, что заплатить я могу.
— Сошьете к завтрашнему вечеру вечерний костюм? — спросил я. — Или взять его напрокат?
Костюм был сшит к сроку. В фойе я повстречался с Кастом и Джорджем Стивенсом, готовыми написать рецензию на случай, если бы я их подвел. Однако я справился и в два часа дня опустил ярко-красный конверт с начисто переписанной статьей в почтовый ящик на Морнингтон-роуд. Играли «Идеального мужа», новую оригинальную пьесу из современной жизни, написанную Оскаром Уайльдом.
Было это 3 января 1895 года, и все прошло прекрасно. Пятого я отправился на «Гая Домвилла», пьесу Генри Джеймса, в театр «Сент-Джеймс». Этот вечер запомнился мне лучше, чем первый. Пьеса была очень слабая. Джеймс был странный, диковинный человек — чуткий, но заблудившийся в лабиринтах своего ума, не получившего ни научной, ни философской выучки. По природной склонности и благодаря особенностям образования он был весьма деликатен, изыскан и сверхутонченно эстетичен. В поисках самых точных средств выразительности он взирал на ближних отчужденно и горестно, словно какие-то чары заключили его в огромный шар. Жил он до удивления благопристойно, а дом его в Райе был, наверное, одним из драгоценнейших образчиков георгианской архитектуры XVIII века. Закоренелый холостяк, он не ведал нужды и полностью отдал себя искусству. Трагедий он не пережил, грубого смеха комедии остерегался, но его снедала тоска по славе драматурга. Тогда он в первый и, по сути, в единственный раз встретился с театром.