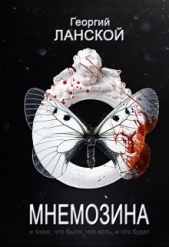Таков мой век

Таков мой век читать книгу онлайн
Мемуары выдающейся писательницы и журналистки русского зарубежья Зинаиды Алексеевны Шаховской охватывают почти полстолетия — с 1910 по 1950 г. Эпоха, о которой пишет автор, вобрала в себя наиболее трагические социальные потрясения и сломы ушедшего столетия. Свидетельница двух мировых войн, революции, исхода русской эмиграции, Шаховская оставила правдивые, живые и блестяще написанные воспоминания. Мемуары выходили в свет на французском языке с 1964 по 1967 г. четырьмя отдельными книгами под общим подзаголовком «Таков мой век». Русский перевод воспоминаний, объединенных в одно издание, печатается впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
После роскошных обедов у родителей поэта Тео Леже мы собирались в гостиной, где слушали, как министр Поль Крокар комментирует события текущей политики или как увлеченный и увлекательный Жак Пиренн рассуждает об истории. Однажды вечером какой-то скучнейший писатель, член Королевской Академии, пришел к Леже читать отрывки из своего романа. Чтение продолжалось очень долго. Жак Пиренн сидел в гостиной у самой двери и украдкой проскользнул в соседнюю комнату. Появился он лишь тогда, когда раздались наши вежливые хлопки. И не без ужаса услышали мы голос мадам Пиренн: «Жак, а вы, кажется, не слышали последней главы? Мы попросим господина X. прочитать нам ее снова». И на этот раз Жаку Пиренну не удалось избежать наказания, как, впрочем, и всем нам.
Но оставим гостиные и, немного переменив обстановку, перенесемся в другие места. Мои самые красочные воспоминания о Бельгии относятся не столько к Антверпенской выставке, очень живописной, где в деревне «Старинная Бельгия» посетители попадали в мир Иорданса и Брейгеля, сколько к моим прогулкам в компании Рене Мерана в квартал Мароль, и, в особенности, к нашим походам к Тоону Четвертому, в узкий и темный Варшавский тупик, где он продолжал древнюю традицию кукольников.
Наблюдать за маленьким залом было не менее любопытно, чем за происходившим на сцене. В первых рядах сидели мальчишки; на задних местах — рабочие в картузах и простоволосые женщины необычайно крепкого телосложения. Никакой Бертольт Брехт не мог бы доставить этим зрителям того удовольствия, какое они получали от пьес, сочиненных или адаптированных самим Тооном на «брюсселерском» диалекте с примесью фламандского и французского и со множеством чисто «марольских» выражений, сохранившихся, видно, со времен Уленшпигеля и его бедняков-оборванцев. Зал погружался в темноту, и оживала сцена; восторженные вздохи вырывались у публики при появлении персонажей или при смене декораций, хотя почти каждый присутствующий прекрасно знал весь репертуар и мог бы сам по ходу действия подать любую реплику. Вот Женевьева Брабантская беседует на марольском наречии с закованным в доспехи рыцарем. Вот дворянин XVIII века, очень довольный окружающей его роскошью, прохаживается по своей гостиной со словами (привожу их в фонетической транскрипции): «Shoene groote salon» [63]. Декорации меняют, как в современном театре, на глазах у зрителей. Стены гостиной улетают, причем видны поднимающие их руки, и мы оказываемся на лужайке, где два молодца скрещивают шпаги под громкие удары листов железа за кулисами. «Давай, давай!» — кричит какой-то мальчишка. Завсегдатай комментирует: «Вот-вот! Сейчас он его убьет, чтобы жениться на Розалиндекс!» Лето, и нас грызут блохи. Во время антракта мальчишки прямо в зале играют в «жучка», какая-то женщина ест жареные ломтики картофеля из промасленного бумажного фунтика. Мы идем поздороваться с Тооном в его владения за кулисы. Там тесно, всюду трупиками лежат марионетки. Текст пьес сочинен самим Тооном; он аккуратно записан в толстые школьные тетрадки, сильно потрепанные от длительного употребления. Тоон — рабочий, он отдает все свободное время любимому делу. У него впалые щеки, он кашляет. Скоро болезнь заставит его покинуть это поприще.
Мы идем выпить с ним по кружке пива в одно из многочисленных кафе, где знаменитый закон социалистов запрещает продажу спиртного. Пиво пенится в кружках. К нему можно купить мелких и жестких, словно резина, улиток. Заметно, что в этих краях к фламандской крови когда-то примешалась испанская: то в мужчине, то в женщине угадывается сходство с уроженцами Кастилии или Арагона. В воздухе пахнет пивом, подгоревшим на сковороде маслом. В нашем мире, где постепенно стираются всякие различия, где все континенты все более походят один на другой, квартал Мароль сохранил свое истинно бельгийское лицо.
Я не переставала писать по-русски для эмигрантских журналов и газет» но общение мое с бельгийскими поэтами привело к тому, что я постепенно, сперва очень робко, начала что-то делать для франкоязычных бельгийских изданий; иной раз меня даже переводили фламандские газеты. В Бельгии очень любят словесность, об этом свидетельствует множество небольших журналов, называемых «Орфеонами». Первым принял меня «Тирс» Леопольда Рози, затем «Авангард». Писала я и литературно-критические статьи для «Ле Руж е ле Нуар», в другое периодическое издание давала свои новеллы. Прочитала по-французски и первую свою лекцию «Судьбы поэтов» — об Александре Блоке, Есенине, Маяковском, Гумилеве…
Вскоре я вошла в группу, выпускавшую «Журналь де Поэт», куда меня ввел мой друг Рене Меран. Но есть в моей натуре некий изъян, он мешает полностью слиться с любой группировкой, какой бы она ни была. Боюсь, я не вполне слилась и с этой, которой руководил Пьер-Луи Флуке. Однако я там нашла себе друзей: Шарля Мюншёра, Эдмонда Вандеркаммена и других… Сотрудничала я и с журналом «Сите Кретьен», и в 1936 году он опубликовал довольно длинную мою статью о Владимире Набокове — первую, я думаю, о нем, а по-французски — наверняка. В 1937 году я написала по-французски для «Сите Кретьен» биографию Пушкина, приуроченную к столетию со дня его смерти, а в серии «Журналь де Поэт» вышел небольшой юбилейный пушкинский сборник, в котором участвовали профессор Гофман, Глеб Струве, Вл. Вейдле. Переводя Пушкина, я сотрудничала с не знавшими русский язык поэтами, среди которых были Рене Меран, Поль Фиренс, Мело дю Ди… Прочие переводы принадлежали перу профессора Лиронделя, Владимиру Набокову, Роберту и Зените Вивье… Этот юбилейный сборник, посвященный Пушкину, стал сегодня библиографической редкостью.
Ну и конечно, любопытство влекло меня в мир, для меня закрытый, — в мир фламандской литературы. Мы подружились с Францем де Бакером, с Реймоном Брюлезом. Знакомы были и с Тусеном ван Буларом и другими. Благодаря им я открыла для себя Гидо Гезеля и Вонделя, а книги Кроммелинка и Мишеля де Гельдероде, хоть они и писали по-французски, как и Шарль де Костер, познакомили меня с Фландрией.
Признаться, я искала для себя родину более осязаемую, чем та, какой стала для меня страна, где я родилась. В своих архивах я нашла текст, написанный мною в те годы для одной проводившей опрос брюссельской газеты. Он представляется мне характерным.
Вот как я ответила тогда на вопрос: «Какой ваш любимый уголок в Бельгии?»:
«Позволительно ли нам, живя в стране, великодушно нас принявшей, вспоминать о другой, которая нас отвергла, забыла, прокляла? Если нет, то обойдусь без позволения. Вот уже шестнадцать лет как я ищу в Бельгии просторные печальные равнины, ищу леса с непомятой травой. Бывало, я узнавала мое детство в Кампине, где-то между Геелем и Меркспласом (в этом краю безумных, краю бродяг), или в местности, именуемой Пюль, окутанной такой чудесной тишиной; автомобилисты ее избегают из-за ухабистой, разбитой дороги. Да, летом Фландрия пахнет медом и хлебом, и сквозь дымку пробиваются ее фольклорные краски. И в Валлонии я тоже знаю укромные уголки. Улыбается лес Сент-Хюбер, вот усеянная солнцем поляна… Но в приглянувшиеся мне места я ни за что не вернусь. Жизнь в том и состоит, чтобы искать и помнить. Но не в том, чтобы возвращаться к минувшим радостям и огорчениям, к тем же пейзажам, к тем же лицам. И если мы полюбили что-то или кого-то, нет тому определенной причины. Просто вдруг мы ощутили гармонию между собой и страной, краем, человеком и так исполнились миром и блаженством (или, напротив, горем и тревогой), что эти чувства выплеснулись наружу и, перекрыв все, стали Мечтой».
И вот кончилось тем, что я стала грешить стихами и частенько публиковать отдельные стихотворения, а через год их набралось даже на целый сборник. Хвастаться мне тут нечем. Вдруг мне представилось, что сочинять современные стихи не так уж и сложно, и я потеряла к ним всякий интерес.
Однажды за ужином в «Журналь де Поэт» я встретила Шарля Плиснье. В этом человеке дела, пикардийце, адвокате, было столько бьющей ключом жизненной силы — необычной для бельгийца, что это сразу привлекло мое изумленное внимание. Он тогда еще не получил Гонкуровскую премию, но и в своей стране, и за ее пределами был уже знаменит, чем был обязан не только активному коммунистическому прошлому, но и тому, что много путешествовал. Где он только не побывал — и в Болгарии в 1925 году для того, по его словам, чтобы «чуть-чуть подорвать собор в Софии», и в Сирии в 1926 году, чтобы «чуть-чуть поджечь Дамаск». К счастью для нашей дружбы, я встретилась с ним в тот момент, когда его жизнь делала крутой поворот, снова приведший его к вере. У него был яркий цвет лица, живые глаза, непокорные волосы, а трубка — эта принадлежность спокойных мужчин — не очень-то к нему шла. Плиснье царствовал — в буквальном смысле слова — над целым «двором» услужливых поклонников. Его жена Алида на него молилась, и Шарль хорошо знал, чем ей обязан. На квартире у Плиснье поэт Сади де Гортер и целая когорта учеников ловили в благоговейной тишине каждое слово мэтра. Я очень ценила Плиснье — больше как человека, нежели как писателя, и считала, что обстановка, которой он себя окружил, несколько утрирована. Он был достаточно умен, чтобы не обижаться на мою прямоту, даже тогда, когда я его упрекнула в том, что он создал вокруг своего обращения к вере слишком уж много шума. Но писатели, впрочем, как и художники (вспомним Фужиту), с трудом отказываются от своего «имиджа». В Шарле Плиснье я ценила его великодушие, милую расположенность к людям, и мне было необычайно приятно написать предисловие к его роману «Фальшивые паспорта», вышедшему в 1948 году в издательстве «Клёб Франсе дю Ливр». Но когда в 1937 году в Париже — как раз за «Фальшивые паспорта» — он получил Гонкуровскую премию, к нему пришла более громкая, чем в Бельгии, слава, и она-то отдалила нас друг от друга. Он отдался ей со всей пылкостью своей натуры. Вновь мы увиделись с ним позже, уже после войны. Он тогда жил на своей ферме в департаменте Сен-е-Марн. Потом он опять исчез, а перед нашим отъездом в Марокко вдруг позвонил. Он узнал, что мы уезжаем, и хотел со мной повидаться. Мы встретились в кафе на Елисейских полях. Болезнь уже наложила на него свой отпечаток. Создалось впечатление, будто он пришел со мной проститься.