Тринадцатый апостол. Маяковский: Трагедия-буфф в шести действиях
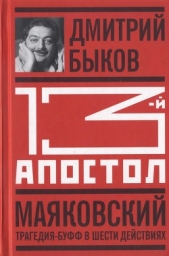
Тринадцатый апостол. Маяковский: Трагедия-буфф в шести действиях читать книгу онлайн
Подлинное значение Владимира Маяковского определяется не тем, что в советское время его объявили «лучшим и талантливейшим поэтом», — а тем, что и при жизни, и после смерти его личность и творчество оставались в центре общественного внимания, в кругу тем, образующих контекст современной русской культуры. Роль поэта в обществе, его право — или обязанность — активно участвовать в политической борьбе, революция, любовь, смерть — всё это ярко отразилось в стихах Маяковского, делая их актуальными для любой эпохи.
Среди множества книг, посвященных Маяковскому, особое место занимает его новая биография, созданная известным поэтом, писателем, публицистом Дмитрием Быковым. Подробно описывая жизненный путь своего героя, его отношения с властью, с женщинами, с соратниками и противниками, автор сосредоточивает внимание на ключевых моментах, видя в них отражение главных проблем русской интеллигенции и шире — русской истории. Этим книга напоминает предыдущие работы Быкова в серии «ЖЗЛ» — биографии Б. Пастернака и Б. Окуджавы, образуя вместе с ними трилогию о судьбах русских поэтов XX века.
знак информационной продукции 16+
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Маяковский чернее тучи.
Длинный был у нас разговор, молодой, тяжкий.
Оба мы плакали. Казалось, гибнем. Все кончено. Ко всему привыкли — к любви, к искусству, к революции. Привыкли друг к другу, к тому, что обуты-одеты, живем в тепле. То и дело чай пьем. Мы тонем в быту. Мы на дне. Маяковский ничего настоящего уже никогда не напишет… Такие разговоры часто бывали у нас последнее время и ни к чему не приводили. Но сейчас, еще ночью, я решила — расстанемся хоть месяца на два. Подумаем о том, как же нам теперь жить.
Маяковский как будто даже обрадовался <…>. Сказал: „Сегодня 28 декабря. Значит, 28 февраля увидимся“, — и ушел».
Дело тут, подозреваю, не в быте, и вообще быт в разговорах «Про это» — не более чем псевдоним. Сама Лиля, кажется, вовсе против быта не возражала: «Чего же я хочу. Мы должны остаться сейчас в Москве; заняться квартирой. Неужели не хочешь пожить по-человечески и со мной?! А уже, исходя из общей жизни — все остальное. Если что-нибудь останется от денег, можно поехать летом вместе, на месяц; визу как-нибудь получим; тогда и об Америке похлопочешь.
Начинать делать все это нужно немедленно, если, конечно, хочешь. Мне — очень хочется. Кажется — и весело и интересно. Ты мог бы мне сейчас нравиться, могла бы любить тебя, если бы был со мной и для меня. Если бы, независимо от того, где были и что делали днем, мы могли бы вечером или ночью вместе рядом полежать в чистой удобной постели; в комнате с чистым воздухом; после теплой ванны!
Разве не верно? Тебе кажется — опять мудрю, капризничаю.
Обдумай серьезно, по-взрослому. Я долго думала и для себя — решила. Хотелось бы, чтобы ты моему желанию и решению был рад, а не просто подчинился! Целую».
И в Америку ей хочется («жить — вместе, ездить — вместе»), и теплая ванна манит, да и кого не манит? Просто не в быте дело и не в чае, а в том, что ко всему этому ей надо рядом гения. А картежника, который о Берлине рассказывает с чужих слов, потому что круглосуточно играл в Норденрее в карты, — не надо; и ей неважно, что Маяковский и за картами, по тысяче косвенных примет, все успевает понять о Берлине. Она в эти его способности не верит. Он вообще многое ругает, не читая: читать еще всякую дрянь!
Ей надо его любить, а чтобы любить — он должен все время прыгать выше головы. Когда не прыгает — ей неинтересно. Вне поэзии Маяковский — обычный и хуже обычного, тяжелый и нервный человек, с весьма средними запросами — от культурных до сексуальных. Ревнивый, раздражительный, мнительный, часто высокомерный со слабейшими, зависящий от верховного одобрения, не чуждый литературного карьеризма. Любит животных, да, но она не животное, а эстрадный успех убивает в нем то бесспорное душевное благородство, которое в нем было всегда, — вопрос только, ценила ли она в ком-то это душевное благородство или все прощала любому за талант и яркость, или, допустим, за надежность? Ведь она была вовсе не из тех, кто уважает доброту — «будь или ангел, или демон», — и сама никого особенно не жалела.
Насколько сознательным было ее решение вернуть Маяковского к литературе? Думаю, скорее подсознательным. Не было никаких гарантий, что в разлуке он вернется к настоящей лирике. Это условие вообще не оговаривалось. Это скорее уж Маяковский так решил использовать паузу в отношениях. Решение очень конструктивное — все в дело.
Но спокоен и тем более радостен он не был. Уже 28 декабря он написал ей письмо — первое в бесконечном прозаическом дневнике «Про это»:
«Я вижу ты решила твердо. Я знаю что мое приставание к тебе для тебя боль. Но Лилек слишком страшно то что случилось сегодня со мной что б я не ухватился за последнюю соломинку за письмо. Так тяжело мне не было никогда — я должно быть действительно черезчур вырос. Раньше прогоняемый тобою я верил во встречу. Теперь я чувствую что меня совсем отодрали от жизни что больше ничего и никогда не будет. Жизни без тебя нет. Я это всегда говорил всегда знал теперь я это чувствую чувствую всем своим существом, все все о чем я думал с удовольствием сейчас не имеет никакой цены — отвратительно.
Я не грожу и не вымогаю прощения. Я ничего с собой не сделаю — мне через чур страшно за маму и Люду с того дня мысль о Люде как то не отходит от меня. Тоже сентиментальная взрослость. Я ничего тебе не могу обещать. Я знаю нет такого обещания в которое ты бы поверила. Я знаю нет такого способа видеть тебя, мириться который не заставил бы тебя мучиться.
И все таки я не в состоянии не писать не просить тебя простить меня за все. Если ты принимала решение с тяжестью с борьбой, если ты хочешь попробовать последнее ты простишь ты ответишь.
Но если ты даже не ответишь ты одна моя мысль как любил я тебя семь лет назад так люблю и сию секунду что б ты не ни захотела, что б ты ни велела я сделаю сейчас же сделаю с восторгом. Как ужасно расставаться если знаешь что любишь и в расставании сам виноват.
Я сижу в кафэ и реву надо мной смеются продавщицы. Страшно думать что вся моя жизнь дальше будет такою.
Я пишу только о себе а не о тебе. Мне страшно думать что ты спокойна и что с каждой секундой ты дальше от меня и еще несколько их и я забыт совсем.
Если ты почувствуешь от этого письма что нибудь кроме боли и отвращения ответь ради Христа ответь сейчас же я бегу домой я буду ждать. Если нет страшное страшное горе.
Целую. Твой весь
Я
Сейчас 10 если до 11 не ответишь буду знать ждать нечего».
Но она ответила, и началась двухмесячная добровольная каторга — работа над поэмой, оказавшейся одновременно и провалом, и прорывом, и высшим его свершением.
Ответ на то, почему обоим — именно обоим! — нужна была эта встряска, можно найти в предисловии к подготовленной в январе 1923 года книге «Семидневный смотр французской живописи». Книга совсем не «про это», но у кого что болит…
«Я вовсе не хочу сказать, что я не люблю французскую живопись. Наоборот. Я ее уже любил. От старой любви не отказываюсь, но она уже перешла в дружбу, а скоро, если вы не пойдете вперед, может ограничиться и простым знакомством».
«Про это» и весь перформанс вокруг ее создания — попытка пойти вперед.
Начнем, однако, с того, что претензии ее по поводу бесплодности берлинского пребывания — в значительной степени дутые. Маяковский в Берлине не только картежничал, а в Париже не картежничал вовсе. Рассмотрим хронику его первого заграничного путешествия (Рига в мае того же года — не в счет, как-никак бывшая Российская империя).
«Зачем обычно ездят? Или бегут. Или удивляться. Я еду удивлять. Сейчас русское искусство в центре. Удивляются не политике, а именно искусству» — тезисы к вступительному слову на вечере в Большом зале Консерватории (читал поэму «Пятый интернационал», незаконченную, футуристическую — с панорамой будущего мира, в котором искусство правит всем).
15 октября он прибыл в Берлин, где участвовал в открытии «Выставки изобразительного искусства РСФСР» (экспонировались в числе прочего 10 «Окон РОСТА»), 20 октября читал в кафе «Леон» — где вполне дружески встретился с Северянином и даже, по его воспоминаниям, собирался немедленно вести его в советское консульство, чтобы оформить гражданство и вернуть в Россию; Северянин упирался — Маяковский предложил отнести его в консульство на руках. В Москве, выступая с докладом о поездке, Маяковский говорил о Северянине весьма резко — убежал, исписался, — но с ним такое бывало. В конце концов, по воспоминаниям Крученых, у него было применительно к стихам любимое ругательство — «это еще хуже, чем Мандельштам» (имея в виду архаику), — а при встречах, как вспоминает Надежда Яковлевна, он Мандельштаму улыбался и говорил: «Как аттический солдат, в своего врага влюбленный». (Хотя таскать на руках при личной встрече и поливать грязью в докладе все же нехорошо: «Продает свое перо за эстонскую похлебку» — ну что это?!)
На вечере в «Леоне», по свидетельству Эренбурга, главным хитом была «Флейта-позвоночник», встреченная восторженно. На чтении был Пастернак.





















