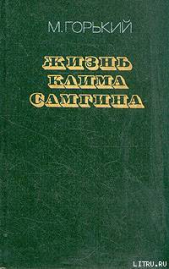Книга о русских людях
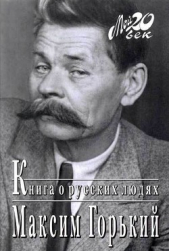
Книга о русских людях читать книгу онлайн
В книгу воспоминаний Максима Горького — Алексея Максимовича Пешкова (1868–1936), — одного из самых знаменитых писателей XX века, вошли его «Заметки из дневника» (поистине уникальный ряд русских характеров — от интеллигента до философствующего босяка, от революционера до ярого монархиста), знаменитые литературные портреты А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, Л. Н. Андреева, В. Г. Короленко, С. А. Есенина, С. Т. Морозова, В. И. Ленина (очерк о нем публикуется в первой редакции — без позднейших наслоений «хрестоматийного глянца»), а также прогремевшая в свое время хроника Октябрьской революции «Несвоевременные мысли».
Предисловие, примечания Павла Басинского
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ну хорошо, хорошо, — сказал еврей и, пожав плечами, ушел, а часов не дал мне. Через минуту сторож и ломовой извозчик внесли большой, но не тяжелый ящик, поставили его на пол, а старик предложил мне:
— Распишите на записку, что получили.
— Это что такое? — осведомился я, показывая на ящик; еврей равнодушно ответил:
— Вы знаете: часы.
— Стенные?
— Ну да. Десять часов.
— Десять штук часов?
— Пусть будет штук.
Хотя все это было смешно, но я сердился, потому что и еврейские анекдоты не всегда хороши. Они особенно плохи, когда не понимаешь их или когда приходится самому играть в анекдоте роль глупую. Я спросил старика: что значит все это?
— Подумайте, кто же едет из Самары в Сызрань покупать часы?
Но еврей тоже почему-то осерчал.
— А какое мне дело думать? — спросил он. — Мне сказали: сделай! И я сделал. «Самарская газета»? Верно. Пешков-Горьков? И это верно. И распишитесь на записку. Что вы от меня хотите?
Я уже ничего не хотел. А старик, видимо, думал, что его втянули в какую-то темную историю, у него дрожали руки, и он ломал пальцами поля своей шляпы. Он так смотрел на меня, что я почувствовал себя виноватым в чем-то пред ним. Отпустив его, я попросил сторожа убрать ящик в корректорскую.
Дней через пять явился Николай Георгиевич, запыленный, усталый, но все-таки бодрый. И тужурка инженера на нем — как его вторая кожа. Я спросил:
— Это вы прислали мне часы?
— Ах, да! Я, я. А — что?
И, с любопытством глядя на меня, он тоже спросил:
— Что вы думаете делать с ними? Мне они совершенно не нужны.
Затем я услышал следующее: гуляя на закате солнца в Сызрани, по берегу Волги, Николай Георгиевич Гарин-Михайловский увидал мальчика-еврея, который удил рыбу.
— И всё, знаете, батенька, удивительно неудачно. Ерши клюют жадно, но из трех два срываются. В чем дело? Оказалось, он ловит не на крючок, а на медную булавку.
Разумеется, мальчик оказался красавцем и необыкновенного ума. Человек далекий от наивности и не очень добродушный, Гарин чрезвычайно часто встречал людей «необыкновенного ума». Видишь то, что сильно хочешь видеть.
— И уже изведавший горечь жизни, — продолжал он рассказывать. — Живет у деда, часовщика, учится мастерству, ему одиннадцать лет. Он и дед — кажется, единственные евреи в городе. Ну и так далее. Пошел с ним к деду. Магазин скверненький, старик чинит горелки ламп, притирает самоварные краны. Пыль, грязь, нищета. У меня бывают припадки… сентиментальности. Предложить денег? Неловко. Ну, я и купил весь его товар, а мальчишке дал денег. Вчера послал ему книг.
И совершенно серьезно Н.Г. сказал:
— Если вам эти часы некуда девать, я, пожалуй, пришлю за ними. Можно отдать рабочим на ветке.
Он рассказал все это, как всегда, — торопливо, но несколько смущенно и, говоря, все как-то отмахивался коротким, резким жестом правой руки.
Иногда он печатал в «Самарской газете» небольшие рассказы. Один из них — «Гений» — подлинная история еврея Либермана, который самостоятельно додумался до дифференциального счисления. Именно так: полуграмотный чахоточный еврей, двенадцать лет оперируя с цифрами, открыл дифференциальное счисление и когда узнал, что это уже сделано задолго до него, то, пораженный горем, умер от легочного кровоизлияния на перроне станции Самара.
Написан был рассказ не очень искусно, но Н.Г. поведал в редакции на словах историю Либермана с поразительным драматизмом. Он вообще рассказывал превосходно и, нередко, лучше, чем писал. Как литератор он работал в условиях совершенно неподходящих, и удивительно, что он мог, при его непоседливости, написать такие вещи, как «Детство Тёмы», «Гимназисты», «Студенты», «Клотильда», «Бабушка».
Когда «Самарская газета» попросила его написать рассказ о математике Либермане, он, после долгих увещаний, сказал, что напишет в вагоне, по дороге куда-то на Урал. Начало рассказа, написанное на телеграфных бланках, привез в редакцию извозчик с вокзала Самары. Ночью была получена длиннейшая телеграмма с поправками к началу, а через день или два еще телеграмма: «Присланное — не печатать, дам другой вариант». Но другого варианта он не прислал, а конец рассказа прибыл, кажется, из Екатеринбурга.
Писал он так неразборчиво, что рукопись нужно было расшифровывать, а это, конечно, несколько изменяло рассказ. Затем рукопись переписывалась знаками, доступными пониманию наборщиков. Вполне естественно, что, читая рассказ в газете, Н.Г. сказал, сморщив лицо:
— Черт знает чего я тут наплел!
Кажется, о рассказе «Бабушка» он сообщил:
— Это написано в одну ночь, на почтовой станции. Какие-то купцы пьянствовали, гоготали, как гуси, а я писал.
Я видел черновики его книг о Маньчжурии и «Корейских сказок»; это была куча разнообразных бумажек, бланки «Отдела службы тяги и движения» какой-то железной дороги, линованные страницы, вырванные из конторской книги, афиша концерта и даже две китайские визитные карточки; все это исписано полусловами, намеками на буквы.
— Как же вы читаете это?
— Ба! — сказал он. — Очень просто, ведь это мною написано.
И бойко начал читать одну из милых сказок Кореи. Но мне показалось, что читает он не по рукописи, а «по памяти».
Я думаю, что к себе, литератору, он относился недоверчиво и несправедливо. Кто-то похвалил «Детство Тёмы».
— Пустяки, — сказал он, вздохнув. — О детях все хорошо пишут, о них трудно написать плохо.
И, как всегда, тотчас же уклонился в сторону:
— А вот мастерам живописи трудно написать портрет ребенка, у них дети — куклы. Даже «Инфанта» Ван-Дейка — кукла.
С. С. Гусев, талантливый фельетонист «Слово-Глаголь», попенял ему:
— Грешно, что вы так мало пишете!
— Должно быть, потому, что я больше инженер, чем литератор, — сказал он и невесело усмехнулся. — Инженер я тоже, кажется, не той специальности, мне нужно бы строить не по горизонталям, а по вертикальным линиям. Нужно было взяться за архитектуру.
Но о своей работе путейца он рассказывал прекрасно, с великим жаром, как поэт.
И так же отлично, увлеченно рассказывал темы своих литературных работ. Помню две: на пароходе между Нижним и Казанью он говорил, что хочет писать большой роман на тему легенды о Цин Гиу-тонге, китайском дьяволе, который пожелал делать добро людям; в русской литературе легенду эту использовал старинный романист Рафаил Зотов. Герой Гарина, хороший, очень богатый фабрикант, которому скучно стало жить, тоже захотел делать добро людям. Добродушный мечтатель, он вообразил себя Робертом Оуэном, наделал очень много смешного и, затравленный людями здравого смысла, умер в настроении Тимона Афинского.
В другой раз, ночью, сидя у меня в Петербурге, он совершенно изумительно рассказал мне случай, который ему хотелось изобразить:
— На трех страницах, не больше!
Рассказ, насколько я его помню, таков: лесной сторож, человек углубленный в себя, подавленный одинокой жизнью и только чувствующий зверя в человеке, идет к ночи в свою сторожку. Обогнал бродягу, пошли вместе. Вялая и осторожная беседа людей, взаимно не верящих друг другу. Собирается гроза, в природе напряжение, над землею мечется ветер, деревья прячутся друг за друга, жуткий шорох. Вдруг сторож почувствовал, что бродягу соблазняет желание убить его. Он старается идти сзади попутчика, но тот, явно не желая этого, шагает рядом. Оба замолчали. И сторож думает: все равно, что бы он ни делал — бродяга убьет его, — судьба! Пришли в сторожку, лесник накормил бродягу, поел сам, помолился и лег, а нож, которым резал хлеб, оставил на столе да еще перед тем, как лечь, осмотрел ружье, стоявшее в углу у печки. Разыгралась гроза. Гром в лесу гудит особенно жутко и молнии страшнее. Хлещет ливень, сторожка дрожит, как будто сорвалась с земли и плывет. Бродяга посмотрел на нож, на ружье, встал и надел шапку.
— Куда? — спросил лесник.
— Уйду я, ну тя к черту.
— Зачем?
— Знаю! Убить меня хочешь ты.