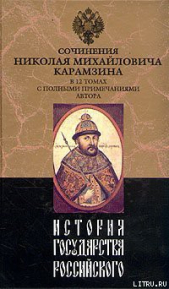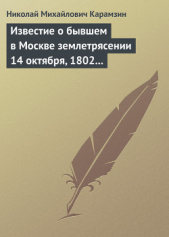Лермонтов

Лермонтов читать книгу онлайн
Новая биография М. Ю. Лермонтова — во многом оригинальное исследование жизни и творчества великого русского поэта. Редакция сочла возможным сохранить в ней далеко не бесспорные, но безусловно, интересные авторские оценки лермонтовского наследия и суждения, не имеющие аналогов в практике отечественного лермонтоведения.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В этот же вечер Лермонтов был арестован. 19-го сделан был обыск в его квартире в Царском Селе (там оказалось не топлено и ящики стола были пусты) и в кабинете его на квартире бабушки... Царь приказал старшему медику гвардейского корпуса «посетить этого молодого человека и удостовериться, не помешан ли он» («а затем мы поступим с ним согласно закону», — прибавил он). «Вступление к этому сочинению дерзко, — пишет Бенкендорф царю о стихах Лермонтова, — а конец — бесстыдное вольнодумство, более чем преступное». Царь: «Приятные стихи, нечего сказать...» У Лермонтова спрашивают, кто распространял стихотворение. Он сказал, что «один из его товарищей» (хотя далеко не «один» из его товарищей переписывал и распространял его стихотворение, но он решил сразу выгородить всех остальных; а один — это Раевский, его ближайший друг и «главный» распространитель), но назвать его отказался. Это было расценено как дерзость. От имени царя ему пригрозили, что если он не назовет распространителя своих стихов, то будет разжалован в солдаты, а если назовет, то этому распространителю ничего не будет, кроме отеческого внушения от государя. Лермонтов подумал о бабушке... Он представил себе, что будет с ней, если его постигнет участь Полежаева. Он молод, он вынесет эту беду, а она? Переживет ли?.. Да и кто, если не он, подумает, позаботится о ней?.. И он назвал Раевского, и тот был арестован. Малодушный поступок тяжелым грузом лег на совесть Лермонтова.
19 или 20 февраля, еще не зная, что Раевский арестован (очевидно, думая, что его и вообще не арестуют), Лермонтов пишет требуемое Бенкендорфом «Объяснение». Начал он его с того, что был «болен», долгое время не мог выезжать из дому (сюда он отнес и все последующее после болезни время, так как не являлся все это время в полк): «Я был еще болен, когда разнеслась по городу весть о несчастном поединке Пушкина, — писал он. — Некоторые из моих знакомых привезли ее и ко мне, обезображенную разными прибавлениями. Одни — приверженцы нашего лучшего поэта — рассказывали с живейшей печалью, какими мелкими мучениями, насмешками он долго был преследуем и, наконец, принужден сделать шаг, противный законам земным и небесным, защищая честь своей жены в глазах строгого света. Другие, особенно дамы, оправдывали противника Пушкина, называли его благороднейшим человеком, говорили, что Пушкин не имел права требовать любви от жены своей, потому что был ревнив, дурен собою, — они говорили также, что Пушкин негодный человек и прочее. Невольное, но сильное негодование вспыхнуло во мне против этих людей, которые нападали на человека, уже сраженного рукою Божией, не сделавшего им никакого зла и некогда ими восхваляемого; и врожденное чувство в душе неопытной — защищать всякого невинно-осуждаемого — зашевелилось во мне еще сильнее по причине болезнью раздраженных нервов. Когда я стал спрашивать: на каких основаниях так громко они восстают против убитого? — мне отвечали, вероятно — чтобы придать себе более весу, что весь высший круг общества такого же мнения. — Я удивился; надо мною смеялись. Наконец, после двух дней беспокойного ожидания пришло печальное известие, что Пушкин умер, и вместе с этим известием пришло другое — утешительное для сердца русского: государь император, несмотря на его прежние заблуждения, подал великодушную руку помощи несчастной жене и малым сиротам его. Чудная противоположность его поступка с мнением (как меня уверяли) высшего круга общества увеличила первого в моем воображении и очернила еще более несправедливость последнего... Тем не менее я слышал, что некоторые люди, единственно по родственным связям или вследствие искательства принадлежащие к высшему кругу и пользующиеся заслугами своих достойных родственников, — некоторые не переставали омрачать память убитого и рассеивать разные, невыгодные для него, слухи. Тогда, вследствие необдуманного порыва, я излил горечь сердечную на бумагу, преувеличенными, неправильными словами выразил нестройное столкновение мыслей, не полагая, что написал нечто предосудительное, что многие ошибочно могут принять на свой счет выражения, вовсе не для них назначенные... Когда я написал стихи мои на смерть Пушкина (что, к несчастию, я сделал слишком скоро), то один мой хороший приятель, Раевский, слышавший, как и я, многие неправильные обвинения и, по необдуманности, не видя в стихах моих противного законам, просил у меня их списать; вероятно, он показал их, как новость, другому, — и таким образом они разошлись... Сам я их больше никому не давал, но отрекаться от них, хотя постиг свою необдуманность, я не мог: правда всегда была моей святыней, и теперь, принося на суд свою повинную голову, я с твердостью прибегаю к ней, как единственной защитнице благородного человека перед лицом царя и лицом Божиим».
В это же время и Раевский, содержащийся под арестом на гауптвахте невдалеке от дома Арсеньевой, пишет свое объяснение. Перебелив его, он хочет передать черновик Лермонтову. Через одного из своих сторожей он отсылает его камердинеру Лермонтова Андрею Ивановичу Соколову с запиской: «Андрей Иванович! Передай тихонько эту записку и бумаги Мишелю. Я подал эту записку министру. Надобно, чтобы он отвечал согласно с нею и тогда дело кончится ничем... А если он станет говорить иначе, то может быть хуже». Тайный почтальон был перехвачен на полпути, и Лермонтов не получил ни записки, ни черновика.
23 февраля было заведено «Дело по секретной части Министерства Военного департамента военных поселений, канцелярии 2-го стола № 22. По записке генерал-адъютанта графа Бенкендорфа о непозволительных стихах, написанных корнетом лейб-гвардии Гусарского полка Лермантовым и распространении оных губернским секретарем Раевским». Из названия этого дела видно, что оно должно было вестить начальством департамента военных поселений, то есть генерал-адъютантом графом Петром Андреевичем Клейнмихелем, директором его. Он же был и дежурным генералом Главного штаба, и Лермонтов, содержащийся там под арестом, подлежал его ведению. Бенкендорф отправил все бумаги — и оба объяснения — Клейнмихелю, с которым Раевский был вообще в большом раздоре по службе, надоел ему постоянным своим правдоискательством. Он рад был случаю расправиться со строптивым чиновником и сразу подал ходатайство о предании его военному суду, то есть более строгому. Его радовало то обстоятельство, что записки обвиняемых сильно противоречат друг другу, да еще эта неудачная попытка обмануть следствие.
Тем временем в одной из комнат верхнего этажа Главного штаба Лермонтов писал стихи. Ни бумаги, ни чернил ему не давали, но он попросил Андрея Ивановича заворачивать приносимый им обед в серую бумагу. А чернила? Открыв печную отдушину, Лермонтов нашел там богатейший запас сажи... Немного воды или вина — вот и прекрасные чернила. Спичкой писать не совсем удобно, а все-таки можно... Тихо здесь было, никто не мешал. На Дворцовой площади мела метель. Ангел мира на Александровской колонне вздымал крест в серые зимние тучи. Зимнего дворца почти не было видно во мгле. Неслышно проползали внизу экипажи. На окнах комнаты нет решеток, это не Шильон и даже не Петропавловская крепость, но все равно тюрьма. А он, Лермонтов, — узник.
«Солнце нашей поэзии закатилось...» Но в наступившей тьме поэзия продолжала жить.
Это не карцер училища... Это уже настоящая неволя! Не здесь ли, не в этой ли комнате помещался Грибоедов, когда его вызвали с Кавказа по делу декабристов? Что он тут делал? Скорее всего сочинял стихи, ведь он поэт... Чувствовал ли он, что ему так недолго оставалось жить?.. В первую же ночь, слушая шаги солдата, бродившего взад и вперед по коридору, Лермонтов подумал о декабристах, сидевших в сырых казематах, где иные пробыли многие годы... Потом мысль его как бы взвилась в высоту и оттуда, из мрачного поднебесья, увидела всю Россию... Сколько тюрем, сколько печальных темниц!.. Сколько бледных лиц глядит сквозь решетки... Написать бы поэму о русском узнике... и как он поет свою песню: