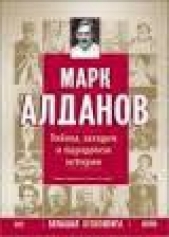Дела и люди века: Отрывки из старой записной книжки, статьи и заметки. Том 1

Дела и люди века: Отрывки из старой записной книжки, статьи и заметки. Том 1 читать книгу онлайн
Мартьянов Петр Кузьмич (1827–1899) — русский литератор, известный своими работами о жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова и публикациями записок и воспоминаний в литературных журналах. «Дела и люди века» — самое полное издание записей Мартьянова. Разрозненные мемуарные материалы из «Древней и Новой России», «Исторического Вестника», «Нивы» и других журналов собраны воедино, дополнены недостающими фрагментами, логически разбиты на воспоминания о литературных встречах, политических событиях, беседах с крупнейшими деятелями эпохи.
Издание 1893 года, текст приведён к современной орфографии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Об этой-то запертой красавице и шепнули гусару. Он приехал как-то в церковь, посмотрел и заинтересовался. Начал он изыскивать меры, чтобы познакомиться с купцом, но купец от всякого знакомства отказался. Хотел обратить на себя внимание купчихи, пробраться как-нибудь в дом, но не удалось: строгости в доме увеличили, старуха свекровь не отходила от невестки ни на шаг и берегла ее как зеницу ока. Но встречаемые гусаром препятствия только сильнее подстрекали его самолюбие, и он поставил себе целью во чтобы-то ни стало завладеть купчихой Долго ему ничего не удавалось, но вдруг выпал счастливый случай. Накануне какого-то большего праздника, купчиха, в сопровождении свекрови и старухи няньки, отправилась пешком в приходскую церковь ко всенощной. Гусара давно уже не было видно в их мирной окраине, он перестал туда ездить. По окончании службы, когда купчиха со своими провожатыми возвращалась домой, вдруг из-за угла соседнего переулка выскочило несколько молодцов, они растолкали старух, схватили купчиху под руки, посадили ее в подлетевшие из-за угла, запряженные лихою тройкою сани и увезли. Улица огласилась криком о помощи, сбежался народ, но тройки давно уже и след простыл. Купец бросился к властям, поднял на ноги полицию, начались розыски, но купчихи не отыскали.
Через три дня та же лихая тройка доставила купчиху домой. Стали расспрашивать: «где была?» Купчиха отвечала: «за городом, но где именно — не знаю». «С кем?» — «С гусаром». Собрали всех гусаров. Виновный заявил, что это сделал он, и что же? Князь Д. В. Голицын, бывший в то время московским генерал-губернатором, сам в молодости немало нашаливший, хотел потушить дело и стал склонять купца на мировую. Трудно было тогда идти против властей, особенно против власти московского главнокомандующего. Купец думал, думал и подчинился. В одном из известных московских ресторанов устроилась мировая. К роскошному обеду явился купец в сопровождении своих сродников и свойственников; гусар с товарищами. Соперников свели, заставили подать друг другу руки. За обедом пошли тосты «за примирение», пили много, и еще более шутили и смеялись. После обеда купец предложил гусару «сыграться в карты», и мрачно прибавил: «авось я буду счастливее». Кто из офицеров отказывался от игры, гусары тем более. Поставили стол. Началась игра. Гусар метал банк, купец понтировал. Счастье улыбалось по очереди то тому, то другому. Вдруг купец, проиграв одну довольно крупную ставку, хватает гусара за руку, и с криком! «шулер, передернул!» дает ему пощечину. Гусар выхватил саблю и хотел рубануть, но его удержали. Явилась полиция, купца отправили на съезжую, откуда он написал генерал-губернатору письмо, в котором объяснил, что гусара обесчестил за то, что тот обесчестил его жену, а на утро повесился.
Вот это то печальное событие, как рассказывал мне один из товарищей М. Ю. Лермонтова, некто И. И. Парамонов, и натолкнуло поэта на мысль написать песню о купце Калашникове, которой конечно дана более блестящая по содержанию форма.
Обер-полицмейстер Цынский
В царствование императора Николая, общий срок военной службы был 25-ти летний. Рекрутские наборы производились при особых, весьма тягостных для населения условиях. Назначались в рекруты люди от 20 до 35 лет, а при неимении метрических свидетельств, шли иногда старики 40–45 лет и более. Принимаемым брили лбы, а бракуемым — затылки. Людей, назначаемых в солдаты, привозили из деревень под присмотром бурмистров, управляющих и старост, связанными, а подчас и в кандалах. После приема их отправляли под конвоем с ружьями. При таких порядках, понятно, с какими чувствами народ шел отбывать эту тяжкую для него повинность. Исполнение её сопровождаюсь возмутительными сценами. Тут было всё: и повальное, беспробудное пьянство назначенных на очередь, и плач, рев, вой, обмороки и причитанья, как бы по мертвеце, их жен, сестер и матерей, и безумная, бесшабашная радость тех немногих, кто по какому-либо счастливому случаю, избавлялся от рекрутчины.
Я помню эти наборы. В начале сороковых годов, мне часто приходилось видеть в Москве эти печальные жертвоприношения народом детей своих на алтарь отечества. Особенно врезался в мою память следующий трагикомический эпизод.
Прием производился еще в здании присутственных мест на Воскресенской площади. Очередных вводили в прием по волостям или вотчинам. Семьи их, родичи и друзья, а также городские зеваки, составляли народные массы вокруг здания присутственных мест. Изредка с крыльца приема сбегал вестник и вещал: «такой-то и такой-то забриты, такой-то забракован». Вопли и стоны усиливались. Толпа колыхалась и выбрасывала из себя два-три семейства сданных в рекруты: они уходили оплакивать свое горе туда, где над ними никто не посмеется. Порой с крыльца сбегал забракованный с громадным выбритым на затылке полумесяцем и начинал или креститься по направлениям к соборам, или плясать среди толпы.
Но вот однажды сбегает с крыльца присутствия, расталкивая стражу и толпу, неизвестно как ускользнувший из приема молодой парень с забритым затылком, в костюме прародителя, волоча правой рукой по снегу пестрядинную свою рубаху. Толпа загоготала и расступилась, дав ему дорогу. Парень вероятно желал пробраться к Иверской, забывая, что он совершенно голый, ринулся на площадь и понесся прямо, что есть мочи.
В это мгновение выезжал из-за угла, мчавшийся на своих «непобедимых» с тремя конвойными казаками, обер-полицмейстер Цынский, не человек, а зверь, про которого ходила в народе поговорка: «украл у батюшки свитку, у матушки свинку». [2]
— Это что за безобразие? — раздался зычный голос начальника полиции — казак, взять его!
Казак бросился за парнем, парень от него, казак пришпорил лошадь и стал настигать нагиша. Казалось, вот, вот он его сейчас схватит; но парень не захотел поддаться, бросился наземь, и казак, перескочив чрез него, пролетел далеко вперед. Парень же между тем вскочил и ударился бежать назад. Толпа ринулась навстречу и заслонила его: кто набросил на него тулуп, кто дал валенки, кто надел шапку, и парень успел скрыться.
Цынский рвал и метал, но с толпой ничего сделать не мог и уехал. На утро собрали к нему всех волостных и вотчинных сдатчиков, проверили забракованных и парня отыскали. Судопроизводство в то время было упрощенное: парня отправили в частный дом и там отстегали, но отстегали должно быть неосторожно, так что бедняка пришлось отправить в больницу, где он полежал, полежал и помер.
А. П. Ермолов, узнав об этом, сказал: «ну, проведают в Петербурге, сошлют бедного Цынского на Кавказ, на место Нейдгардта».
Как Мина попала в фавор
В «Хронике петербургских театров» А. И. Вольфа, мне пришлось, между прочим, прочитать, что «в Петербурге, при директоре театров А. М. Гедеонове, имела громадное влияние на театральный мир Мина Ивановна Б., занимавшая неофициальный, но весьма важный пост театральной помпадурши. От неё зависели главные назначения и ангажирования артистов, она вмешивалась и в хозяйственную часть: ни один подрядчик, ни один поставщик не допускался без её предварительного одобрения. Зато квартира этой чухонской Аспазии и вообще вся её обстановка отличались необыкновенною роскошью. В её салонах толпились не только артисты, но и все лица, имевшие дело до её патрона», и т. д.
Эта «чухонская Аспазия» была действительно всемогущая в свое время фаворитка министра двора и друга императора Николая, покойного графа В. Ф. Адлерберга. Влияние её не ограничивалось одним театральным мирком, многое от неё зависело и вообще по министерству двора. Знаменитый остряк, князь А. С. Меншиков, сказал однажды: «люблю я графа Адлерберга, но мне его мина не нравится».
Деятельность фаворитки многим в Петербурге известна и до сих пор памятна. Но многие ли знали её прошлое и случай её повышения?
Вот что рассказывал мне о ней М. С. Морголи, бывший откупщик, человек, обладавший в свое время большим состоянием и любивший пожить. Он знал Мину еще «бедною».