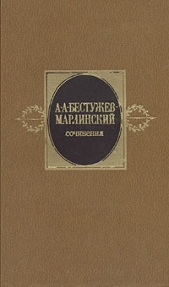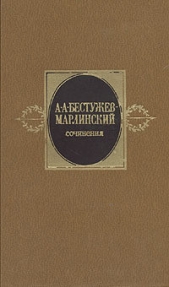Бестужев-Марлинский
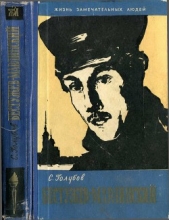
Бестужев-Марлинский читать книгу онлайн
Книга, которая пытается на место тусклой легенды поставить образ живого человека со сложной историей внутреннего развития, деятельности и общественных отношений, должна оперировать множеством фактов. Этого рода данные изложены, насколько позволил размер книги, полно и, во всяком случае, точно. В частности, приводимые в книге диалоги представляют собой иногда сокращенное, очень редко дополненное воспроизведение подлинных разговоров, зафиксированных в делах процесса декабристов, мемуарах современников, письмах и других материалах подобного рода.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Бестужев намеревался испытать себя и в прозе. Для этого он выбрал отрывок из сочинения графа де Брея [6] и перевел его под названием: «О нынешнем нравственном и физическом состоянии лифляндских и эстляндских крестьян». Отрывок был выбран не без расчета. Недавно освобожденные от крепостной зависимости балтийские крестьяне вдруг вышли на сцену общественной жизни как новое явление, интересное и даже значительное, если иметь в виду все растущие склонности общества к раскрепощению крестьян в остальной империи. Выбирая отрывок из де Брея, Бестужев хотел выступить перед русской публикой как ловкий парижский публицист, умеющий своевременно и живо осветить занимающий умы вопрос. Греч одобрил и самую идею, и отрывок, и перевод, в который, впрочем, внес множество грамматических исправлений. Бестужев пробовал спорить, но был опрокинут навзничь первым же наскоком Греча. Николай Иванович не без основания считался превосходным русским грамматиком. Статья вышла в № 38 «Сына отечества».
Бестужев жил в Марли, той части Петергофа, которая примыкает к дворцовому строению этого названия. Поручик Пенхержевский, часто заходя к Александру, уже несколько раз заставал его на диване над листами бумаги, развеянными по полу, и с пером, которое острые зубы прапорщика грызли с жестоким постоянством.
— Что это ты, любезный, все пишешь, как Геродот? — подозрительно спрашивал поручик. — Вот и сегодня. А ведь нынче, чай, не почтовый день…
Бестужев посмотрел на поручика и удивился. Этого человека он считал еще недавно своим другом из числа «избранных». Но ведь Пенхержевский просто глуп, несмотря на свою необыкновенную способность витиевато выражаться. Вообще свет оказывался неимоверно узеньким: с тех пор как брат Николай Александрович снова ушел в заграничное плавание, ни одного вполне рассудительного и честного друга не оставалось у Александра. Товарищи по полку, все вообще, не годились в друзья.
Поручик Яковлев, прозванный «Куликом» за длинный нос, — дерзкий хвастун и неистощимый враль. Простодушный Кардо-Сысоев полагал, что Дания — главный город Ганноверского королевства и что экватор и Эквадор — одно и то же. У Сиверса почти не оставалось носа, от древнейшей из венерических болезней. Все — в этом роде. Вот Клюпфель со своими масонскими знаками, но невозможно представить себе существо более надутое и скучное, чем Клюпфель.
Пенхержевский присел на диван к Бестужеву и, подбирая с полу исписанные листы бумаги, небрежно их перечитывал.
— А это что?
Это была карикатура, бойко набросанная Бестужевым в минуту, когда ничего не писалось. Все офицерское общество полка было представлено в виде птичьего двора. Старая способность Бестужева «уродить» людей на рисунке весело разыгралась в карикатуре. Пенхержевский живо узнал Кулика — Яковлева, себя — в жирном гусе, Клюпфеля — в торжествующем индейском петухе. Поручик водил пальцем по бумаге и, отыскав знакомое лицо, отваливался на спину и стонал от смеха. Потом вдруг вскочил и вместе с веселым листом кинулся вон из горницы: унес показывать бестужевский шедевр.
В течение целого дня по полку гуляли Пенхержевский, карикатура и общий довольный хохот. А наутро Пенхержевский, туго затянутый парадным шарфом и в кивере, явился к Бестужеву с вызовом от Клюпфеля. Поручик был обижен и требовал сатисфакции.
Стрелялись через сутки, версты за три от большой петергофской дороги, в чахлых березовых кустах над речкой. Бестужев ехал на место встречи со сладким замиранием сердца. Клюпфель — глуп, но пуля дурака бьет не слабее всякой другой. И в сознании смертельной опасности, которой нельзя было миновать, несмотря на ничтожность создавшего ее случая, заключалось что-то грустно-поэтическое. Вся жизнь — сцепление пустяков и ужасов, — такая же, на многие годы растянувшаяся дуэль. Презрение к жизни переполняло грудь Бестужева, когда он стоял перед дулом клюпфелевского пистолета. Грянуло, ткнуло в шею, затянуло дымом — ничего: пуля прошла через воротник и широкий галстук. Свой заряд Бестужев выпустил в березку возле Клюпфеля и — попал, деревцо жалко надломилось.
— Довольно! — закричали секунданты.
Клюпфель подошел с протянутой рукой, — бледный и нелепо улыбающийся. Назад ехали вместе. Когда караульный унтер-офицер на заставе лихо крикнул: «Бом — высь!» — и пестрый шлагбаум начал медленно подниматься, недавние враги обнялись.
Чичерин сделал вид, что ему неизвестно о поединке. В глазах юнкеров и только что произведенных прапорщиков Бестужев сразу стал героем. Поэт, остроумный рисовальщик, дуэлянт — по духу времени и вкусу такая репутация должна была считаться завидно блестящей. Бестужев достиг того, к чему всегда стремился — первенствовать среди общества, в которое забросила его судьба. Он мог бы теперь наслаждаться своим положением в полку. Но странное дело: как только это положение было достигнуто, оно сразу потеряло цену и интерес. Снова с сокрушительной силой проявилась эта удивительная особенность Бестужева — заветная приманка вчерашнего дня уже сегодня казалась скучной, ненужной ветошью, и выбросить на удивление людям свое равнодушие оставалось единственной забавой. Конечно, в этих настроениях было немало условного, почерпнутого не из души, а из книг. Наконец они были просто модны.
Николай Александрович Бестужев вернулся из заграничного плавания поздней осенью и привез с собой множество политических новостей. 27 сентября на Аахенском конгрессе была подписана конвенция о выводе из Франции союзных войск, а 3 ноября — протокол нового союза пяти великих держав и самая удивительная из всех политических деклараций. В этом документе государи России, Австрии и Пруссии сообщали миру, что отныне цель их будущей политики заключается в поддержании существующего порядка, который, по их мнению, вполне согласован с духом христианского братства, объединяющего монархов. Только система, даровавшая Европе мир, способна обеспечить продолжение мира. Сущность этой системы в том, что монархи и их подданные должны считать себя членами одной и той же христианской нации. Сам бог — верховный владыка этой нации, и ему, «собственно, принадлежит держава, поелику в нем едином обретаются сокровища любви, ведения и премудрости бесконечный». Этот пустой и трескучий акт считали в Европе произведением пера русского императора. Новый акт, заключенный «во имя пресвятой и нераздельной троицы», завершил создание Священного союза.
Греч злобно хохотал над всей этой метафизикой, когда братья Бестужевы заехали к нему в один из четвергов. Николай Иванович был практический человек, и подобные отвлеченности шевелили в нем желчь.
Греч провел своих гостей в кабинет. Там сидел у бюро Николай Тургенев. Спокойные серые глаза его были глубоки и выразительны. Короткая левая нога, заставлявшая его ковылять на ходу, казалась особенно досадным промахом природы в этом человеке большого тела и сильной мысли.
Греч показал на Николая Александровича:
— Господин Бестужев только что прибыл из-за границы и рассказывает такое, что и в голове вместить невозможно. Мое мнение — Священный союз еще себя покажет.
Тургенев быстро развернул гамбургскую газету.
— Однако император держится своего. Читайте, что он сказал недавно генералу Мезону: «Наконец все народы должны освободиться от самовластия. Вы видите, что я делаю в Польше и что хочу сделать и в других моих владениях». Я слышал наверное, что Новосильцов по поручению государя уже составляет «Уставную грамоту» русскому народу, и это — конституция.
— Да он не хочет — он только хочет хотеть, собирается хотеть, — заметил Греч, — а это вовсе не одно и то же.
В последнее время Александр Бестужев несколько сторонился Греча. Николай Иванович как-то пообещал выносить из него писателя в яйце под мышкой. Покровительственный тон фразы взбесил Бестужева. Не скажи ее Греч, может быть, в драгунской голове и не родилась бы дерзкая мысль об издании нового журнала. Но Греч неловко затронул самолюбие, и мысль родилась.